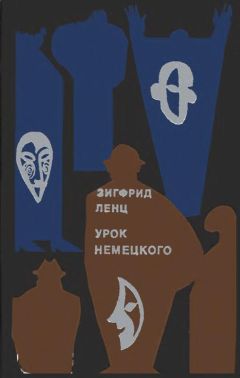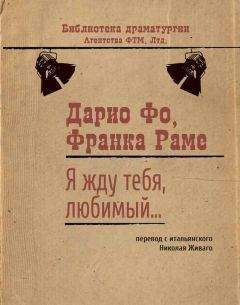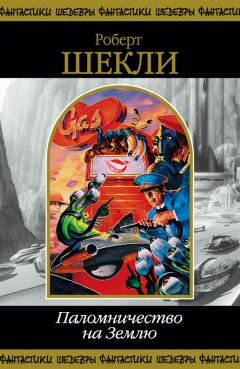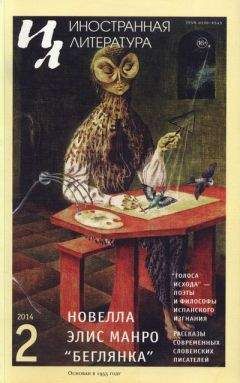Зигфрид Ленц - Урок немецкого
Я думаю, мы не ошибемся, если скажем, что в немалой степени это обусловлено, конечно, остротой и актуальностью той нравственно-психологической проблемы современности, которая приобрела особое значение именно в свете недавнего исторического опыта — проблемы ответственности человека за то, что содеяно им во исполнение того или иного долга. Ведь сколько и ныне еще в ФРГ таких, кто выставляет свое служение долгу во времена «третьего рейха» в качестве некой безусловной индульгенции: они, видите ли, были всего лишь солдатами, они только выполняли свой гражданский долг и потому не могут отвечать за то, что приходилось им делать, что им приказывали. Они — только исполнители. Но при этом, однако же, они не прочь поставить себе еще и в заслугу то, что были добросовестными исполнителями, честно несли свои гражданские обязанности!..
Но долг, если для человека это действительно долг, есть, как это и показывает Зигфрид Ленц, личное дело человека. Ничто не может заставить его принять что-то в качестве своего долга, если он сам этого не примет. Его можно принудить к выполнению тех или иных приказов — угрозой наказания, страхом смерти. Но считать это своим долгом — никогда. Долг есть только то, что ты сам признаешь в качестве безусловного принципа своей жизни, только то, что принято актом твоего собственного, личного самоопределения. И именно поэтому долг и не может быть ни при каких условиях и ни при каком содержании инстанцией, способной снять с человека ответственность за весь, полный объем свершенного во имя его. Ты не отвечаешь за содержание приказов, ты всего лишь принимал их к безусловному исполнению? Но не забывай, что безусловное это исполнение ты сам принял на себя, сам признал своим долгом, сам выдал санкцию производителям приказов решать за тебя, сам поставил свою подпись на чистом векселе.
Вскрывая личностный характер служения ругбюльского постового своему долгу, показывая его как единственно возможную, психологически неизбежную форму отношения человека к долгу, если он действительно считает свои обязанности долгом, Зигфрид Ленц выступает тем самым против двойной бухгалтерии тех, кто гордится, что был бескорыстен и честен в исполнении своих былых гражданских обязанностей, и в то же время снимает с себя ответственность за то, что приходилось ему делать, исполняя эти обязанности. «Это не я замахиваюсь», — говорит ругбюльский полицейский, предъявляя художнику приказ о запрете писать картины. «Нет, ты не замахиваешься, зато ты рад стараться», — отвечает художник. Он мог бы выразить это и по-другому: ты рад стараться, — значит, и ты замахиваешься.
Итак, уже со стороны этой, достаточно злободневной проблемы современности образ ругбюльского полицейского представляет, как видим, немалый интерес. И уже одного этого было бы, конечно, вполне достаточно, чтобы оправдать внимание Зигфрида Ленца к психологии своего безотказного исполнителя приказов.
Однако есть в художническом исследовании Зигфрида Ленца и еще один, не менее важный и общезначимый проблемный аспект.
4Нетрудно понять, что, выбрав для роли преследователя художника Нансена человека, считающего безусловное выполнение приказов своим личным делом, своим Долгом, Зигфрид Ленц создал ситуацию столкновения двух противоположных, взаимоисключающих отношений к жизни, двух полярных человеческих «правд». Правда художника — с его независимостью, духовной свободой, с его «личным порядком», определения которого он никому не уступит — начисто зачеркивает ругбюльского полицейского с его правдой безоговорочного подчинения чужой воле — воле «законной» власти. Равно как и правда Йенса Оле Йепсена требует устранения правды художника.
Иными словами, перед нами ситуация столкновения двух правд, формально — «на равных».
Но на равных ли — по существу? Вот вопрос, который неизбежно возникает при всякой сшибке такого рода. Вопрос, как нетрудно понять, ключевой.
Именно таким является он и для Ленца в этом романе. В ответе на него заключен главный нравственный смысл романа, его главный человеческий «урок».
Для очень многих и многих поклонников новейшего этического релятивизма, весьма распространенного ныне на Западе, ситуация, подобная той, которую показывает нам Ленц, послужила бы всего лишь иллюстрацией неизбежной, как они считают, множественности человеческих «правд», их принципиальной несоизмеримости друг с другом, их принципиального равноправия.
Зигфрид Ленц — и в этом мудрая зрелость и подлинный гуманизм его позиции — отстаивает нечто прямо противоположное. И не только эмоционально, различием своего отношения к ругбюльскому постовому, с одной стороны, и к художнику — с другой. Достоинство позиции Зигфрида Ленца в этом романе в том, что он художественно доказывает безусловную общезначимость гуманистических критериев жизненной ориентации человека в мире. В том числе — и на примере самого Йенса Оле Йепсена, находящегося как будто вне всякой власти этих критериев. Здесь-то и обнаруживает свой принципиальный, свой, так сказать, методологический художественный смысл та тема «радостей исполненного долга», исследование которой Зигги сделал — как будто по воле случая, но, как выясняется, весьма проницательно, — ключевым принципом своего мемуарного урока.
Действительно, если все человеческие «правды» равноправны, если они могут дать человеку ощущение полноты и «нормальности» своего существования, то, очевидно, и служение ругбюльского постового своему долгу должно обладать той же человеческой наполненностью. Но как же быть тогда с «радостями», которые сопутствуют исполненному долгу? Где они?
Злобное превосходство и болезненное удовлетворение на лице ругбюльского полицейского в ту минуту, когда он арестовывает-таки художника? Или, может быть, те чувства, которые раздирают Йенса Оле Йепсена, когда он оказывается перед необходимостью либо изменить Долгу, либо выдать Клааса властям? Читатель помнит эти сцены, они написаны с подлинным драматизмом и психологической точностью — даже этот неистовый ревнитель долга явно не выдерживает, готов вот-вот дрогнуть, и только тупая жестокость жены, еще более упрямой в своем фанатизме, заставляет его в конце концов остаться верным своему фантому…
Речь идет, конечно, не о радостях в буквальном смысле, в их непосредственно эмоциональном выражении. Радости здесь — как это и вообще часто у Ленца — символический, а отчасти и иронический псевдоним более широкого и общего круга состояний, связанных с нравственным самоощущением человека — прежде всего с неразрушенной цельностью и полнотой его нравственного здоровья.
Но о чем же и в этом смысле можно говорить, если прямым и необратимым следствием добросовестного исполнения долга, оказывается как раз все большее и большее разрушение личности ругбюльского полицейского, разрыв всех человеческих связей с окружающим миром, даже с собственными детьми, погружение в пучину злобной ненависти, взвинченно-исступленного, из одного уже только упрямого желания доказать свою правоту, служения идолу долга? О чем говорить, если даже пресловутая эта верность долгу не может уже существовать в нем иначе, как став его «пунктиком», его «болезнью, если не чем похуже», как говорит Зигги? Если ему остается только совсем уже превратиться в «психа», чтобы «в бредовом состоянии выполнять свой треклятый долг»?..
Долг ругбюльского полицейского сшит слишком явно не по мерке человека, слишком через многое требует переступить — вот итог, к которому неопровержимо подводит нас своим исследованием Зигфрид Ленц. Поэтому-то в той катастрофической для человека ситуации в какой оказывается ругбюльский постовой, — в ситуации, когда исполнение долга требует отказа от человечности, когда, иными словами, гражданская моральность перестает быть нравственной, — в этой ситуации добросовестный исполнитель долга неизбежно становится и его жертвой. Палачом самого себя.
Как бы обобщая все эти мотивы романа, художник говорит однажды своему земляку и бывшему приятелю: «Раз ты считаешь, что каждый должен выполнять свой долг, то я скажу тебе на это нечто противоположное, а именно, что каждый обязан делать что-то несовместимое с его долгом».
Какая парадоксальная формула: долг человека в том, чтобы делать нечто несовместимое с долгом!
Но ведь она и имеет в виду не менее парадоксальную ситуацию, когда моральный долг человека по отношению к «закону» приходит в противоречие с его нравственным долгом, когда единая по своей сути сфера этического сознания человека оказывается расщепленной на антагонистические, раздирающие ее полюсы. И в этом контексте формула художника означает только одно — необходимость и неизбежность выбора, который должен сделать человек между этими двумя расколовшимися ипостасями Долга. Выбора, единственно верными критериями которого могут служить только гуманистические критерии социально-справедливой нравственности.