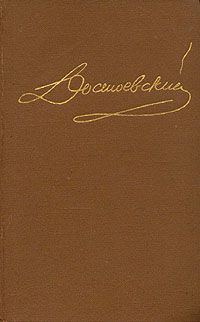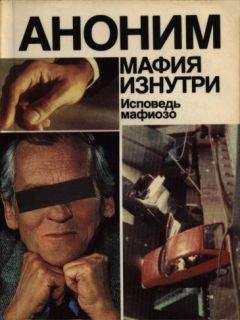Федор Достоевский - Бесы
— Признаюсь, я сама чувствую, что я даже обязана, но… что, если ждет другой позор? Что, если не соберутся? Ведь никто не приедет, никто, никто!
— Экой пламень! Это они-то не приедут? А платья нашитые, а костюмы девиц? Да я от вас после этого как от женщины отрекаюсь. Вот человекознание!
— Предводительша не будет, не будет!
— Да что тут, наконец, случилось! Почему не приедут? — вскричал он наконец в злобном нетерпении.
— Бесславие, позор — вот что случилось. Было я не знаю что, но такое, после чего мне войти невозможно.
— Почему? Да вы-то, наконец, чем виноваты? С чего вы берете вину на себя? Не виновата ли скорее публика, ваши старцы, ваши отцы семейств? Они должны были негодяев и шелопаев сдержать, — потому что тут ведь одни шелопаи да негодяи, и ничего серьезного. Ни в каком обществе и нигде одною полицией не управишься. У нас каждый требует, входя, чтоб за ним особого кварташку отрядили его оберегать. Не понимают, что общество оберегает само себя. А что у нас делают отцы семейств, сановники, жены, девы в подобных обстоятельствах? Молчат и дуются. Даже настолько, чтобы шалунов сдержать, общественной инициативы недостает.
— Ах, это золотая правда! Молчат, дуются и… озираются.
— А коли правда, вам тут ее и высказать, вслух, гордо, строго. Именно показать, что вы не разбиты. Именно этим старичкам и матерям. О, вы сумеете, у вас есть дар, когда голова ясна. Вы их сгруппируете — и вслух, и вслух. А потом корреспонденцию в «Голос» и в «Биржевые». Постойте, я сам за дело возьмусь, я вам всё устрою. Разумеется, побольше внимания, наблюдать буфет; просить князя, просить господина… Не можете же вы нас оставить, monsieur, когда именно надо всё вновь начинать. Ну и, наконец, вы под руку с Андреем Антоновичем. Как здоровье Андрея Антоновича?
— О, как несправедливо, как неверно, как обидно судили вы всегда об этом ангельском человеке! — вдруг, с неожиданным порывом и чуть не со слезами, вскричала Юлия Михайловна, поднося платок к глазам. Петр Степанович в первое мгновение даже осекся:
— Помилуйте, я… да я что же… я всегда…
— Вы никогда, никогда! Никогда вы не отдавали ему справедливости!
— Никогда не поймешь женщину! — проворчал Петр Степанович с кривою усмешкой.
— Это самый правдивый, самый деликатный, самый ангельский человек! Самый добрый человек!
— Помилуйте, да я что ж насчет доброты… я всегда отдавал насчет доброты…
— Никогда! Но оставим. Я слишком неловко вступилась. Давеча этот иезуит предводительша закинула тоже несколько саркастических намеков о вчерашнем.
— О, ей теперь не до намеков о вчерашнем, у ней нынешнее. И чего вы так беспокоитесь, что она на бал не приедет? Конечно, не приедет, коли въехала в такой скандал. Может, она и не виновата, а все-таки репутация; ручки грязны.
— Что такое, я не пойму: почему руки грязны? — с недоумением посмотрела Юлия Михайловна.
— То есть я ведь не утверждаю, но в городе уже звонят, что она-то и сводила.
— Что такое? Кого сводила?
— Э, да вы разве еще не знаете? — вскричал он с удивлением, отлично подделанным, — да Ставрогина и Лизавету Николаевну!
— Как? Что? — вскричали мы все.
— Да неужто же не знаете? Фью! Да ведь тут трагироманы произошли: Лизавета Николаевна прямо из кареты предводительши изволила пересесть в карету Ставрогина и улизнула с «сим последним» в Скворешники среди бела дня. Всего час назад, часу нет.
Мы остолбенели. Разумеется, кинулись расспрашивать далее, но, к удивлению, он хоть и был сам, «нечаянно», свидетелем, ничего, однако же, не мог рассказать обстоятельно. Дело происходило будто бы так: когда предводительша подвезла Лизу и Маврикия Николаевича, с «чтения», к дому Лизиной матери (всё больной ногами), то недалеко от подъезда, шагах в двадцати пяти, в сторонке, ожидала чья-то карета. Когда Лиза выпрыгнула на подъезд, то прямо побежала к этой карете; дверца отворилась, захлопнулась; Лиза крикнула Маврикию Николаевичу: «Пощадите меня!» — и карета во всю прыть понеслась в Скворешники. На торопливые вопросы наши: «Было ли тут условие? Кто сидел в карете?» — Петр Степанович отвечал, что ничего не знает; что, уж конечно, было условие, но что самого Ставрогина в карете не разглядел; могло быть, что сидел камердинер, старичок Алексей Егорыч. На вопрос: «Как же вы тут очутились? И почему наверно знаете, что поехала в Скворешники?» — он ответил, что случился тут потому, что проходил мимо, а увидав Лизу, даже подбежал к карете (и все-таки не разглядел, кто в карете, при его-то любопытстве!), а что Маврикий Николаевич не только не пустился в погоню, но даже не попробовал остановить Лизу, даже своею рукой придержал кричавшую во весь голос предводительшу: «Она к Ставрогину, она к Ставрогину!» Тут я вдруг вышел из терпения и в бешенстве закричал Петру Степановичу:
— Это ты, негодяй, всё устроил! Ты на это и утро убил. Ты Ставрогину помогал, ты приехал в карете, ты посадил… ты, ты, ты! Юлия Михайловна, это враг ваш, он погубит и вас! Берегитесь!
И я опрометью выбежал из дому.
Я до сих пор не понимаю и сам дивлюсь, как это я тогда ему крикнул. Но я совершенно угадал: всё почти так и произошло, как я ему высказал, что и оказалось впоследствии. Главное, слишком заметен был тот очевидно фальшивый прием, с которым он сообщил известие. Он не сейчас рассказал, придя в дом, как первую и чрезвычайную новость, а сделал вид, что мы будто уж знаем и без него, — что невозможно было в такой короткий срок. А если бы и знали, всё равно не могли бы молчать о том, пока он заговорит. Не мог он тоже слышать, что в городе уже «звонят» про предводительшу, опять-таки по краткости срока. Кроме того, рассказывая, он раза два как-то подло и ветрено улыбнулся, вероятно считая нас уже за вполне обманутых дураков. Но мне было уже не до него; главному факту я верил и выбежал от Юлии Михайловны вне себя. Катастрофа поразила меня в самое сердце. Мне было больно почти до слез; да, может быть, я и плакал. Я совсем не знал, что предпринять. Бросился к Степану Трофимовичу, но досадный человек опять не отпер. Настасья уверяла меня с благоговейным шепотом, что лег почивать, но я не поверил. В доме Лизы мне удалось расспросить слуг; они подтвердили о бегстве, но ничего не знали сами. В доме происходила тревога; с больною барыней начались обмороки; а при ней находился Маврикий Николаевич. Мне показалось невозможным вызвать Маврикия Николаевича. О Петре Степановиче, на расспросы мои, подтвердили, что он шнырял в доме все последние дни, иногда по два раза на день. Слуги были грустны и говорили о Лизе с какою-то особенною почтительностию; ее любили. Что она погибла, погибла совсем, — в этом я не сомневался, но психологической стороны дела я решительно не понимал, особенно после вчерашней сцены ее с Ставрогиным. Бегать по городу и справляться в знакомых, злорадных домах, где уже весть, конечно, теперь разнеслась, казалось мне противным, да и для Лизы унизительным. Но странно, что я забежал к Дарье Павловне, где, впрочем, меня не приняли (в ставрогинском доме никого не принимали со вчерашнего дня); не знаю, что бы мог я сказать ей и для чего забегал? От нее направился к ее брату. Шатов выслушал угрюмо и молча. Замечу, что я застал его еще в небывалом мрачном настроении; он был ужасно задумчив и выслушал меня как бы через силу. Он почти ничего не сказал и стал ходить взад и вперед, из угла в угол, по своей каморке, больше обыкновенного топая сапогами. Когда же я сходил уже с лестницы, крикнул мне вслед, чтоб я зашел к Липутину: «Там всё узнаете». Но к Липутину я не зашел, а воротился уже далеко с дороги опять к Шатову и, полурастворив дверь, не входя, предложил ему лаконически и безо всяких объяснений: не сходит ли он сегодня к Марье Тимофеевне? На это Шатов выбранился, и я ушел. Записываю, чтобы не забыть, что в тот же вечер он нарочно ходил на край города к Марье Тимофеевне, которую давненько не видал. Он нашел ее в возможно добром здоровье и расположении, а Лебядкина мертвецки пьяным, спавшим на диване в первой комнате. Было это ровно в девять часов. Так сам он мне передавал уже назавтра, встретясь со мной впопыхах на улице. Я же в десятом часу вечера решился сходить на бал, но уже не в качестве «молодого человека распорядителя» (да и бант мой остался у Юлии Михайловны), а из непреодолимого любопытства прислушаться (не расспрашивая): как говорят у нас в городе обо всех этих событиях вообще? Да и на Юлию Михайловну хотелось мне поглядеть, хотя бы издали. Я очень упрекал себя, что так выбежал от нее давеча.
IIIВся эта ночь с своими почти нелепыми событиями и с страшною «развязкой» наутро мерещится мне до сих пор как безобразный, кошмарный сон и составляет — для меня по крайней мере — самую тяжелую часть моей хроники. Я хотя и опоздал на бал, но все-таки приехал к его концу, — так быстро суждено было ему окончиться. Был уже одиннадцатый час, когда я достиг подъезда дома предводительши, где та же давешняя Белая зала, в которой происходило чтение, уже была, несмотря на малый срок, прибрана и приготовлена служить главною танцевальною залой, как предполагалось, для всего города. Но как ни был я худо настроен в пользу бала еще давеча утром, — всё же я не предчувствовал полной истины: ни единого семейства из высшего круга не явилось; даже чиновники чуть-чуть позначительнее манкировали, — а уж это была чрезвычайно сильная черта. Что до дам и девиц, то давешние расчеты Петра Степановича (теперь уже очевидно коварные) оказались в высшей степени неправильными: съехалось чрезвычайно мало; на четырех мужчин вряд ли приходилась одна дама, да и какие дамы! «Какие-то» жены полковых обер-офицеров, разная почтамтская и чиновничья мелюзга, три лекарши с дочерьми, две-три помещицы из бедненьких, семь дочерей и одна племянница того секретаря, о котором я как-то упоминал выше, купчихи, — того ли ожидала Юлия Михайловна? Даже купцы наполовину не съехались. Что до мужчин, то, несмотря на компактное отсутствие всей нашей знати, масса их все-таки была густа, но производила двусмысленное и подозрительное впечатление. Конечно, тут было несколько весьма тихих и почтительных офицеров со своими женами, несколько самых послушных отцов семейств, как всё тот же, например, секретарь, отец своих семи дочерей. Весь этот смирный мелкотравчатый люд явился, так сказать, «по неизбежности», как выразился один из этих господ. Но, с другой стороны, масса бойких особ и, кроме того, масса таких лиц, которых я и Петр Степанович заподозрили давеча как впущенных без билетов, казалось, еще увеличилась против давешнего. Все они пока сидели в буфете и, являясь, так и проходили прямо в буфет, как в заранее условленное место. Так по крайней мере мне показалось. Буфет помещался в конце анфилады комнат, в просторной зале, где водворился Прохорыч со всеми обольщениями клубной кухни и с заманчивою выставкой закусок и выпивок. Я заметил тут несколько личностей чуть не в прорванных сюртуках, в самых сомнительных, слишком не в бальных костюмах, очевидно вытрезвленных с непомерным трудом и на малое время, и бог знает откуда взятых, каких-то иногородних. Мне, конечно, было известно, что по идее Юлии Михайловны предположено было устроить бал самый демократический, «не отказывая даже и мещанам, если бы случилось, что кто-нибудь из таковых внесет за билет». Эти слова она смело могла выговорить в своем комитете, в полной уверенности, что никому из мещан нашего города, сплошь нищих, не придет в голову взять билет. Но все-таки я усумнился, чтоб этих мрачных и почти оборванных сертучников можно было впустить, несмотря на весь демократизм комитета. Но кто же их впустил и с какою целью? Липутин и Лямшин были уже лишены своих распорядительских бантов (хотя и присутствовали на бале, участвуя в «кадрили литературы»); но место Липутина занял, к удивлению моему, тот давешний семинарист, который всего более оскандалил «утро» схваткой со Степаном Трофимовичем, а место Лямшина — сам Петр Степанович; чего же можно было ожидать в таком случае? Я старался прислушаться к разговорам. Иные мнения поражали своею дикостью. Утверждали, например, в одной кучке, что всю историю Ставрогина с Лизой обделала Юлия Михайловна и за это взяла со Ставрогина деньги. Называли даже сумму. Утверждали, что даже и праздник устроила она с этою целью; потому-то-де половина города и не явилась, узнав, в чем дело, а сам Лембке был так фраппирован[211], что «расстроился в рассудке», и она теперь его «водит» помешанного. Тут много было и хохоту, сиплого, дикого и себе на уме. Все страшно тоже критиковали бал, а Юлию Михайловну ругали безо всякой церемонии. Вообще болтовня была беспорядочная, отрывистая, хмельная и беспокойная, так что трудно было сообразиться и что-нибудь вывести. Тут же в буфете приютился и просто веселый люд, даже было несколько дам из таких, которых уже ничем не удивишь и не испугаешь, прелюбезных и развеселых, большею частию всё офицерских жен, с своими мужьями. Они устроились на отдельных столиках компаниями и чрезвычайно весело пили чай. Буфет обратился в теплое пристанище чуть не для половины съехавшейся публики. И однако, через несколько времени вся эта масса должна была нахлынуть в залу; страшно было и подумать.