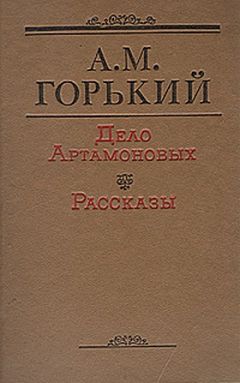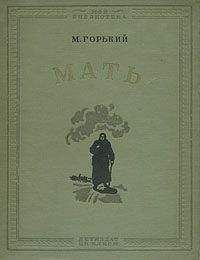Максим Горький - Мать. Дело Артамоновых
— Бредишь ты! — строго заметил Петр. — Выпил лишнее. Какая монахиня?
Никита настойчиво продолжал:
— Тихон говорит: если бог миру хозяин, так дожди должны идти вовремя, как полезно хлебу и людям. И не все пожары — от человека; леса — молния зажигает. И зачем было Каину грешить, на смерть нашу? На что богу уродство всякое; горбатые, например, на что ему?
«Ага, вот оно что!» — подумал Петр, усмехаясь в бороду, чувствуя, что жалобы брата на бога очень успокаивают его; это хорошо, что монах не жалуется на родных.
— Каина — нельзя понять. Этим Тихон меня как на цепь приковал. Со дня смерти отца у меня и началось. Я думал: уйду в монастырь — погаснет. А — нет. Так и живу в этих мыслях.
— Прежде ты об этом молчал…
— Всего сразу не скажешь. Да, я бы, может, всю жизнь молчал, но — богомольцы мешают. Совесть тревожат. И — опасно, вдруг выскользнет Тихоново в моих-то речах? Нет, он человек умный, хоть, может, я и не люблю его. Он и про тебя думает, вот, говорит, трудился человек для детей, а дети ему чужие…
— Это еще что? — сердито спросил Петр. — Что он может знать?
— Знает. Дело, говорит, обман…
— Слышал я… Его, дурака, прогнать нужно, да — много знает он о семейном, нашем…
Артамонов сказал это, желая напомнить Никите о тягостной ночи, когда Тихон вынул его из петли, но думая о мальчике Никонове. Монах не понял намека; он поднес рюмку ко рту, окунул язык в вино и, облизав губы, продолжал жестяными словами:
— Тихона тоже обидел кто-то, он и оторвался от всех, как разоренный…
Нужно было отвести монаха от этих мыслей.
— Что ж ты теперь, не веришь, что ли, в бога-то? — спросил он и удивился: он хотел спросить ядовито, а вышло как-то не так.
— Трудно понять, кто теперь верит, — не сразу ответил монах. — Думают все — много, а веры не заметно. Думать-то не надо, если веришь. Этот, который о боге с рогами говорил…
— Брось, — посоветовал Петр, оглянувшись. — Все это — от скуки, от безделья. Запрячь бы всех в железные хомуты.
— Нет, в двоих верить нельзя, — настойчиво сказал отец Никодим.
Уже второй раз на колокольне били в колокол; мерные удары торкались в черное стекло окна. Петр спросил:
— На службу пойдешь?
— Не хожу. Ноги стоять не дают.
— Тут за нас молишься?
Монах не ответил.
— Ну, мне бы уснуть, устал я в дороге.
Никита молча уперся длинными руками в ручки кресла, осторожно поднял угловатое тело свое, позвал:
— Митя. Митрий?
И снова опустился, виновато сказав:
— Прости: забыл я, келейник-то мой в гостинице спит. Услал я его; хотелось свободно поговорить, а они тут доносчики все, ябедники…
Он ненужно и многословно объяснил брату путь в гостиницу, и когда Петр вышел во тьму, под холодненький, пыльный дождь, то подумал:
«Не хотелось, болтуну, чтоб я ушел».
И внезапно, со знакомым страхом, Артамонов-старший почувствовал, что слова идет по краю глубокого оврага, куда в следующую минуту может упасть. Он ускорил шаг, протянул руки вперед, щупая пальцами водянистую пыль ночной тьмы, неотрывно глядя вдаль, на жирное пятно фонаря.
«Нет, — поспешно думал он, спотыкаясь, — все это не надо мне. Завтра же уеду. Не надо. Что случилось? Илья воротится! Нет, надобно твердо жить. Вон как Алексей разыгрался. Он и обыграть меня может».
Об Алексее он думал насильно, потому что не хотел думать о Никите, о Тихоне. Но когда он лег на жесткую койку монастырской гостиницы, его снова обняли угнетающие мысли о монахе, дворнике. Что это за человек, Тихон? На все вокруг падает его тень, его слова звучат в ребячливых речах сына, его мыслями околдован брат.
«Утешитель! — думал он о брате. — А вот Серафим, простой плотник, умеет утешать».
Не спалось, покусывали комары, за стеною бормотали в три голоса какие-то люди, Петру подумалось, что это, должно быть, пекарь Мурзин, купец с больною ногой и человек с лицом скопца.
«Пьянствуют, наверное».
Монастырский сторож изредка бил колотушкой в чугунную доску, потом вдруг, очень торопливо, как бы опоздав, испугавшись, заблаговестили к заутрене, и под этот звон Петр задремал.
Брат пришел к нему таким, как он видел его вчера, в саду, с тем же чужим и злонамеренным взглядом вкось и снизу вверх. Артамонов-старший торопливо умылся, оделся и приказал служке, чтоб дали лошадь до ближайшей почтовой станции.
— Что так скоро? — спросил монах, не удивляясь. — Я думал, — поживешь здесь.
— Дело не позволяет.
Пили чай. Петр долго придумывал: о чем бы спросить брата? И — вспомнил:
— Значит — уходить хочешь отсюда?
— Думаю. Не отпускают.
— Что ж это они?
— Я выгоден им. Полезен.
— Так. А — куда ж ты?
— Может — странствовать буду.
— С больными-то ногами?
— И безногие двигаются.
— Это — верно, двигаются, — согласился Петр.
Помолчали. Затем Никита сказал:
— Тихону поклонись.
— Еще кому?
— Всем.
— Ладно. А что ж ты не спросишь, как Алексей живет?
— Что спрашивать? Я — знаю, он — умеет. Я, может быть, скоро уйду отсюда.
— Зимой не уйдешь.
— Почему? И зимой ходят.
— Верно, ходят, — снова согласился Петр и предложил брату денег.
— Давай, на починку мельницы пойдут. К настоятелю не зайдешь?
— Некогда, лошадь подана.
Прощаясь, братья обнялись. Обнимать Никиту было неудобно. Он не благословил брата, правая рука его запуталась в рукаве рясы, и Петр подумал, что запуталась она нарочно. Упираясь горбом в живот его, Никита глухо попросил:
— Ты прости, ежели я вчера лишнее что-нибудь сказал.
— Ну, что там! Мы — братья.
— Думаешь, думаешь по ночам-то…
— Да, да! Ну, прощай…
Выехав за ворота монастыря, Петр оглянулся и на белой стене гостиницы увидал фигуру брата, похожую на камень.
— Прощай, — проворчал он, сняв фуражку, голову его обильно посолил мелкий дождь. Ехали сосновым лесом, было очень тихо, только хвоя сосен стеклянно звенела под бисером дождя. На козлах брички подпрыгивал монах, а лошадь была рыжая, с какими-то лысыми ушами.
«О чем говорят! — думал Петр. — Бог дожди не вовремя посылает. Это всё со зла, от зависти, от уродства. От лени. Заботы нет. Без заботы человек — как собака без хозяина».
Петр оглянулся, поеживаясь, нашел, что дождь идет действительно не вовремя, и снова, серым облаком, его окутали невеселые думы. Чтоб избавиться от них, он пил водку на каждой станции.
Вечером, когда вдали показался дымный город, дорогу перерезал запыхавшийся поезд, свистнул, обдал паром и врезался под землю, исчез в какой-то полукруглой дыре.
III
Припоминая бурные дни жизни на ярмарке, Петр Артамонов ощущал жуткое недоумение, почти страх; не верилось, что все, что воскрешала память, он видел наяву и сам кипел в огромном, каменном котле, полном грохота, рева музыки, песен, криков, пьяного восторга и сокрушающего душу тоскливого воя безумных людей. Варил и разбалтывал все это большой кудрявый человек в цилиндре и сюртуке; на синем, бритом лице его были влеплены выпуклые, совиные глаза; человек этот шлепал толстыми губами и, обнимая, толкая Артамонова, орал:
— Дурак — молчи! Крещение Руси, понимаешь? Ежегодное крещение на Волге и Оке!
Лицом он был похож на повара, а по одежде на одного из тех людей с факелами, которых нанимают провожать богатых покойников в могилы. Петр смутно помнил, что он дрался с этим человеком, а затем они пили коньяк, размешивая в нем мороженое, и человек, рыдая, говорил:
— Пойми рев русской души! Мой отец был священник, а я — прохвост!
Голос у него был густой, трубный, но мягкий, он обливал всех людей темным потоком неслыханных слов, и слова эти неотразимо волновали.
— Нетление плоти! — кричал он. — Бой с дьяволом! Бросьте ему, свинье, грязную дань! Укрощай телесный бунт, Петя! Не согрешив — не покаешься, не покаешься — не спасешься. Омой душу! В баню ходим, тело моем? А — душа? Душа просит бани. Дайте простор русской душе, певучей душе, святой, великой!
Петр тоже плакал, растроганный, и бормотал:
— Сирота она, душа, приемыш — верно! Забыта. Не жалеем.
И все люди кричали:
— Верно! Правильно!
А лысый, рыжебородый человек с раскаленным лицом и лиловыми ушами, кругленький, верткий, крутился, точно кубарь, исступленно по-бабьи взвизгивая:
— Степа — правда! Обожаю тебя. Смертельно люблю. Три штучки смертельно люблю: тебя, кисленькое и правду. О душе — правду!
И тоже плакал и пел:
Смертию смерть поправ.
Петр подпевал ему словами Антона-дурачка:
Кибитка потерял колесо.
Ему тоже казалось, что он любит черного Степу, он слушал его крики очарованно, и хотя иногда необыкновенные слова пугали его, но больше было таких, которые, сладко и глубоко волнуя, как бы открывали дверь из темного, шумного хаоса в некий светлый покой. Особенно нравились ему слова «певчая душа», было в них что-то очень верное, жалобное, и они сливались с такой картиной: в знойный, будний день, на засоренной улице Дремова стоит высокий, седобородый, костлявый, как смерть, старик, он устало вертит ручку шарманки, а перед нею, задрав голову, девочка лет двенадцати в измятом, синеньком платье, закрыв глаза, натужно, срывающимся голосом поет: