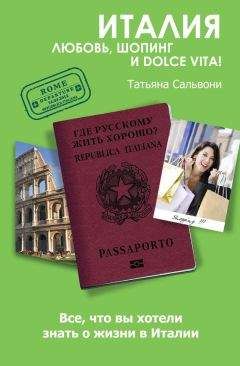Жермена Сталь - Коринна, или Италия
Хорас Уолпол{256} сказал: «Папы строили храмы в новом стиле на средства, собранные в готических церквах, где процветало благочестие». Свет, падающий сквозь цветные витражи, своеобразные архитектурные формы и весь облик готического собора в целом — это своего рода олицетворение несказанной великой тайны, которую каждый чувствует в своей душе, но не в силах ни отрешиться от нее, ни ее постигнуть.
Люсиль и лорд Нельвиль покинули Милан в день, когда земля была покрыта снегом; в Италии снег производит особенно печальное впечатление, ибо там глаз не привык к однообразной белой пелене, и все итальянцы сокрушаются, когда наступает дурная погода, словно их постигло всенародное бедствие. Путешествуя с Люсиль, лорд Нельвиль хотел показать ей Италию с самой лучшей стороны, но это ему не удалось: зимой там хуже, чем где бы то ни было, ибо в этой стране ожидаешь совсем иных картин природы. Лорд и леди Нельвиль проехали Пьяченцу, Парму и Модену. Церкви и дворцы там чересчур грандиозны сравнительно с малолюдством этих городов и бедностью их жителей. Можно сказать, что эти города построены лишь для того, чтобы принимать знатных вельмож, сопровождаемых немногочисленной свитою.
В то утро, когда Люсиль и лорд Нельвиль собрались переправиться через Таро, оказалось, что река накануне ночью вышла из берегов, и это происшествие опять омрачило их поездку по Италии; разливы рек, сбегающих с Альп и с Апеннин, бывают очень страшны. Еще издалека слышится рев, подобный грому; волны катятся с неимоверной быстротой, не отставая от оглушительного шума, возвещающего об их приближении. Невозможно перекинуть мосты через эти реки, ибо они непрестанно меняют свое русло, растекаясь по равнине. Освальд и Люсиль вынуждены были внезапно остановиться у берега Таро, так как лодки унесло течением и приходилось ждать, пока итальянцы, неторопливые по природе, пригонят их к берегу потока, устремившегося по новому руслу. Люсиль, погруженная в холодную задумчивость, прогуливалась по берегу; туман был такой густой, что водный простор сливался с небом, и река скорее напоминала легендарный Стикс, нежели благодатные воды, чарующие взоры опаленных солнцем жителей Юга. Боясь, как бы пронзительный холод не повредил дочери, Люсиль повела ее в рыбачью хижину, где огонь пылал посреди комнаты, как в жилищах русских крестьян.
— Где же, наконец, ваша прекрасная Италия? — со вздохом спросила Люсиль лорда Нельвиля.
— Не знаю, когда я снова увижу ее, — печально ответил он.
Приближаясь к Парме и к окрестным городам, еще издали можно приметить живописные крыши в форме террас. Церкви и колокольни причудливо громоздятся над плоскими кровлями, придающими итальянским городам восточный облик; и когда возвращаешься на Север, то островерхие крыши, предназначенные защищать дома от снега, производят неприятное впечатление. В Парме еще сохранилось несколько шедевров Корреджо. Лорд Нельвиль привел Люсиль в церковь, где можно увидеть его фреску, так называемую Мадонну «della scala»; эта фреска покрыта занавесом. Когда отдернули занавес, Люсиль взяла на руки Жюльетту, чтобы та могла лучше рассмотреть картину, и в эту минуту поза матери и ребенка почти совпала с позой Пресвятой Девы и Младенца. Лицо Люсиль было так похоже на дышавший целомудрием и покоем лик, созданный Корреджо, что Освальд то и дело переводил взгляд с фрески на Люсиль и вновь на фреску. Она это заметила, потупила глаза, и сходство стало еще более разительным, ибо Корреджо лучше всех художников умел придавать опущенным глазам проникновенное молитвенное выражение. Окутанный дымкой взор от этого не менее красноречив и полон таинственного небесного очарования.
Мадонна словно готова отделиться от стены, и краски ее так нежны, что кажется, будто их можно сдуть дыханием. Это придает фреске особенно меланхолическую прелесть, чувствуется, что она недолговечна, и к ней хочется возвратиться несколько раз как бы для того, чтобы сказать ей сердечное последнее прости.
Выйдя из церкви, Освальд сказал Люсиль:
— Фреска в скором времени исчезнет, но перед моими глазами навсегда останется ее живой образец.
Эти милые слова растрогали Люсиль, и она пожала ему руку: она уже готова была спросить, может ли ее сердце поверить в его любовь к ней; когда обхождение Освальда казалось ей холодным, гордость не позволяла ей жаловаться, а радуясь какому-нибудь знаку его нежности, она боялась вспугнуть словами счастливое мгновение. Так рассудок и душа ее постоянно побуждали ее к молчанию. Она утешала себя надеждой, что со временем ее покорность и кротость тронут Освальда и наступит счастливый день, который развеет ее печали.
Глава седьмая
Здоровье лорда Нельвиля поправлялось благодаря мягкому климату Италии, но мучительное беспокойство по-прежнему его томило; он повсюду наводил справки о Коринне, и всегда ему отвечали так же, как и в Турине, что, вероятно, она живет во Флоренции и что, с тех пор как она перестала писать, о ней никто больше ничего не знает. О, разве так говорили когда-то о Коринне и мог ли Освальд простить себе, что он погубил и ее счастье, и ее славу?
При въезде в Болонью еще издали бросаются в глаза две высокие башни{257}, одна из которых так накренилась, что на нее страшно смотреть. Хотя всем известно, что она умышленно была так построена и простояла века в таком наклонном положении, все же вид этой башни действует удручающе. Болонья из тех городов, где можно встретить немало просвещенных людей{258} в различных отраслях науки; однако простой народ там производит отталкивающее впечатление. Люсиль ожидала услышать гармоническую речь итальянцев, о которой ей столько говорили, и болонский диалект неприятно ее поразил; даже в северных странах не услышишь таких резких и хриплых звуков. Освальд и Люсиль приехали в Болонью в самый разгар карнавала; день и ночь раздавались веселые возгласы, которые можно было принять за гневные крики и ругань; чернь, напоминающая неаполитанских ладзарони, коротает ночи под аркадами, которые тянутся по обеим сторонам болонских улиц; зимою туда приносят с собой горящие угли в глиняных горшках, едят на улице и преследуют иностранцев назойливыми просьбами. Напрасно Люсиль надеялась услышать мелодичное пение, которое звучит по ночам в Италии; в холодное время года песни умолкают, и в Болонье разносятся в воздухе вопли, которые пугают непривычных людей. Простонародный говор режет ухо, так резки его звуки; и нравы черни в некоторых южных странах отличаются еще большей грубостью, чем в северных. Замкнутая домашняя жизнь укрепляет общественный порядок, а когда люди ведут жизнь на улице под палящим солнцем, они невольно дичают.
Освальда и леди Нельвиль на каждом шагу осаждали толпы нищих — настоящий бич Италии. Когда они проходили мимо болонских темниц, они видели за решетками окон, выходивших на улицу, заключенных, которые предавались самому отвратительному веселью, громкими воплями подзывали к себе прохожих и выклянчивали у них подаяние, сопровождая свои просьбы гнусными шутками и разнузданным хохотом: все в этом месте говорило, что здешний народ утратил чувство собственного достоинства.
— Не таков народ у нас в Англии, он вполне достоин своих правителей, — сказала Люсиль. — Освальд, неужели такая страна может вам нравиться?
— Боже меня упаси, — ответил Освальд, — когда-нибудь отказаться от моей родины! Но когда мы переедем через Апеннины, вы услышите тосканский говор, вы увидите настоящий Юг, вы узнаете умный и живой народ этих мест, и тогда, надеюсь, вы не будете столь суровы к Италии.
Можно судить об итальянском народе, в зависимости от обстоятельств, совершенно по-разному. Иногда его осуждают по заслугам; но порой его порицают совсем несправедливо. В стране, где правительство чаще всего безответственно, где почти не существует общественного мнения, ибо с ним не считаются как в высших, так и в низших классах; в стране, где священнослужители заняты больше выполнением обрядов, чем нравственным воспитанием своей паствы, — трудно сказать что-либо хорошее о народе, рассматривая его в целом; но зато там можно встретить очень много прекрасных людей. Дело случая — вызывают ли итальянцы у путешественников похвалу или насмешку; по случайным встречам составляют суждение о всей нации, но эти суждения носят произвольный характер, ибо приезжие не знакомы ни с учреждениями этой страны, ни с ее нравами, ни с духом народа.
Освальд и Люсиль пошли осматривать болонскую картинную галерею, где находится прекрасное собрание произведений живописи. Освальд особенно долго стоял перед сивиллой кисти Доменикино{259}. Люсиль заметила, какой интерес вызывает у него эта картина; видя, что он погрузился в ее созерцание, Люсиль робко спросила, не говорит ли его сердцу сивилла Доменикино больше, чем Мадонна Корреджо. Освальд понял, что хотела сказать Люсиль, и был поражен ее словами; он некоторое время молча глядел на нее, а потом ответил: