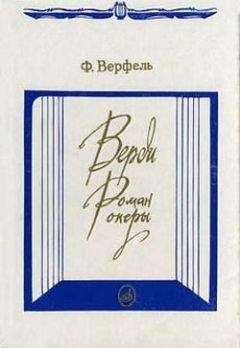Франц Верфель - Песнь Бернадетте
— У этих нет болей, — тихонько говорит доктор на ухо Лафиту. — Мы находимся как бы в первом круге Дантова ада. Это круг слепых и частично парализованных.
Когда близорукому Лафиту удается получше приглядеться к сидящим за столами, он убеждается, что почти все здесь либо хромают, опираясь на костыли или палки, либо руки у них скрючены или плетью висят вдоль тела. Другие же, странно подмигивая, незряче улыбаются в пустоту. Лафит пытается скрыть свое волнение.
— И сколько этих несчастных излечится? — спрашивает он у доктора.
— За последние десятилетия уже многие излечились. Тем не менее бесспорно необъяснимые исцеления — большая редкость. Они подлежат регистрации и освидетельствованию в специальном медицинском бюро. И будьте уверены, друг мой, что скепсис с нашей стороны, со стороны врачей, ни на йоту не убывает. Правда, облегчения и улучшения при тяжких органических недугах случаются довольно часто. Посмотрите на этих людей! Если хоть один из сотен и тысяч вдруг прозреет или вернет своим ногам способность ходить — что является истинным чудом, — то это переворачивает душу всем остальным. В них вселяется надежда, которая не желает считаться ни с чем. Если в этом году не повезло, повезет в следующем. Понимаете? — Дозу открывает какую-то дверь. — А здесь лежат полностью парализованные, не испытывающие болей…
Еще три зала. Плотные ряды коек. Тихо лежат больные под белыми одеялами. Кое-где из-под одеяла торчит ортопедический аппарат. У некоторых коек сидят близкие — муж, жена, мать или кто-то еще из родных. Под койками сложены жалкие пожитки бедняков, в чемоданах по семь су за штуку. Здесь, в отличие от столовой, стынет тишина. На лицах этих прикованных к постели людей лежит печать неимоверной усталости, они все еще без сил после долгого пути к станции «Последняя надежда». У некоторых глаза устремлены куда-то вдаль, другие спят глубоким, каким-то непробудным сном.
Теперь Гиацинту де Лафиту приходится крепко держать себя в руках, ибо они входят в следующие круги здешнего ада. Всю свою жизнь он избегал вида болезней и уродств, щадя свою чувствительность. Хотя у него, поэта-романтика, излюбленной темой была темная сторона жизни, в действительности он старался обходить ее стороной. Он даже не знал, что на свете существует то, что он здесь увидел. Поэтому он то и дело опускает веки. Но уши он заткнуть не может, когда в палатах больных, испытывающих невыносимые страдания, его плотно окружают сдавленные стоны, пронзительные вопли и бессвязный бред. Здесь палата «внутренних болезней»: люди с разрушенными легкими, у которых на губах то и дело выступает кровавая пена, люди с раком кишечника, не способные удерживать экскременты. Лафиту не терпится поскорее уйти отсюда. Но неумолимый доктор Дозу вводит его в боковую комнату. Там в креслице с подъемным устройством сидит мальчик лет одиннадцати с такими глазами, которые Лафиту никогда не забыть. Бесформенные ноги мальчика от бедер до подошв покрыты красными пятнами всех оттенков от светло-розового до темно-бурого. Из открытых гангренозных язв сочится кровянистый гной. Насквозь пропитавшиеся им повязки валяются рядом на полу. Возле мальчика сидит изможденная старуха — только она одна выдержала во время пути гнилостную вонь, исходящую от его ног.
— Ну, как дела, молодой человек? — нарочито бодрым голосом спрашивает Дозу.
— Пресвятая Дева помогла мне, — с готовностью отзывается мальчик. — Кое-где язвы уже подсохли. Поглядите сами, месье…
— Великолепно, дружок. Завтра она тебе опять поможет. И так день за днем, всю неделю, пока все не подсохнет…
— Да, месье, я твердо в это верю! — восклицает мальчик, и в его смертельно усталых глазах появляется проблеск надежды.
Лафит бегом бежит из этой комнатки. И попадает в палату смертников. Здесь лежат люди, рухнувшие на пороге последней надежды. Большинство из них уже причастились. У каждой койки стоит священник. И Лафит вдруг с ужасом ощущает собственную смерть, засевшую у него в гортани. Он пробует сглотнуть слюну. Час назад это получалось без труда. А сейчас он явственно ощущает плотный узелок, замкнувший гортань. Вид умирающих приблизил его собственную смерть. Он знает, что и он — звено этой длинной цепи обреченных, хоть пока еще в силах играть роль важной персоны, спокойно осматривающей этот ад, будто самому ему ничего не грозит. Страх перехватывает ему горло. Он боится обнаружить свою слабость и опозориться перед спутниками…
Все трое идут дальше и входят в палату женщин, больных волчанкой. Они неподвижно и молча сидят на кроватях, завесив лицо густой черной вуалью, поскольку сами не выносят вида друг друга. Доктор просит одну из женщин приподнять вуаль, и Лафит с Эстрадом на миг отворачиваются. Голова женщины похожа на голый череп, только цвет у нее, как у сырого мяса. Глаза лихорадочно блестят в глубине кровавых провалов. Болезнь начисто съела ее нос и губы. В зияющих дырах ноздрей торчат ватные тампоны. Эта женщина только что выпила чашку кофе, следя, чтобы кофе попал в нужное отверстие. Доктор Дозу говорит с этим кроваво-красным черепом спокойно и деловито, как с вполне нормальным существом:
— В прошлом году у нас была больная, состояние которой было куда хуже, чем ваше, мадам. И эта пациентка излечилась, полностью выздоровела. Понимаете?.. А теперь дайте мне слово, что наберетесь терпения и больше не станете делать глупости…
Кроваво-красный череп энергично кивает.
Выходя из палаты, Дозу шепчет на ухо друзьям:
— Вчера она пыталась покончить с собой…
— А это правда, что такое лицо когда-то излечилось и вообще может излечиться? — с трудом произносит Лафит.
— Чистая правда, — отвечает доктор. — И в бюро вы можете посмотреть фотоснимки. Последняя больная, излечившаяся от волчанки, сначала и не заметила, что у нее вдруг появились нормальный нос и рот.
В одной из боковых комнат низенькая женщина неподвижно стоит в углу лицом к стене. Так она стоит целый день, словно нашаливший ребенок, которого в наказание поставили в угол и теперь он на всех дуется.
— Мадам, я врач и пришел навестить вас, — обращается к ней Дозу. Женщина медленно оборачивается. Ее лицо еще меньше похоже на нормальное человеческое лицо, чем тот изъеденный волчанкой кроваво-красный череп. Вместо лица у нее сплошная темно-коричневая опухоль, из которой наружу выступают лишь губы, похожие скорее на огромные темно-лиловые наросты вроде разлапистых грибов на стволе дерева. Эта чудовищная голова Медузы начинает говорить, и говорит с жаром, но слышится только глухое бормотанье, словно из-за плотно обитой двери. Но Дозу понимает, что она хочет сказать, и вежливо кивает в ответ.
— Ваше желание будет исполнено, мадам. После полуночи вас переведут в ванны, где вы будете совсем одна и никто вас не увидит…
Гиацинт де Лафит медленно спускается по лестнице, прижимая сжатую в кулак руку к груди. Мысли путаются у него в голове. И страшные вопросы сверлят мозг: неужели это природа — чистая, бескорыстная, бездуховная и бесчувственная богиня — не только уничтожает свои творения в процессе беспрерывного обновления, но с тем же безразличием приговаривает их к гниению заживо? Для нее яркая раскраска на крыльях бразильской бабочки и столь же яркие краски на заживо разлагающемся лице, пораженном волчанкой, — одно и то же. Она не делает различия между красотой и уродством — этими ориентирами человека, самого жалкого из ее творений. А может, это варварский Бог Земли, вроде Шиутекутли у ацтеков, извлекает из таких ужасных лиц и измученных тел извращенное наслаждение жертвой? Или же эти немыслимые болезни насылает на людей Бог еврейской Библии и христианской церкви, который терпит эти немыслимые болезни как недоступный нашему разуму силлогизм между первородным грехом одушевленной материи, ставшей человеком, и его спасением на Небе?
Выбравшись наконец на свежий воздух, доктор говорит Лафиту:
— Вот вы и увидели, друг мой, как глубоко проникает ад в нашу жизнь…
— Да, месье, — подхватывает Эстрад. — И Лурд на нашей планете — та точка, где ад пересекается с раем.
Друзья двигаются дальше. Доктор берет Лафита под руку.
— Вы увидели лишь крошечный сколок страданий, которыми полон мир, их больше, чем полагают люди. И все они выплескиваются сюда непрерывным потоком. Завтра прибудут еще пять составов с больными. Причем едут к нам не только наивно верующие люди, ищущие в Лурде исцеления, и даже не только католики, но также и протестанты, и евреи. Все они — отчаявшиеся люди, не видящие другого выхода…
— И от отчаяния излечиваются чаще, чем от болезни, — тихо добавляет Эстрад.
Доктор Дозу останавливается и обводит взглядом панораму города.
— Могли ли мы двадцать лет назад, сидя в кафе у Дюрана и дискутируя о литературе и науке, представить себе все это? Могли ли вообразить, что возникнет этот новый Лурд, словно по мановению волшебной палочки? И все лишь потому, что нищая девочка с грязной улочки Птит-Фоссе увидела в гроте Массабьель прекраснейшую Даму и стала за нее бороться. Если у нас здесь и существуют чудеса, то Бернадетта Субиру — самое большое из них. Что вы на это скажете, писатель?