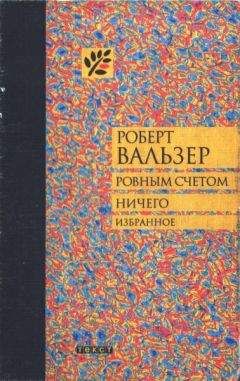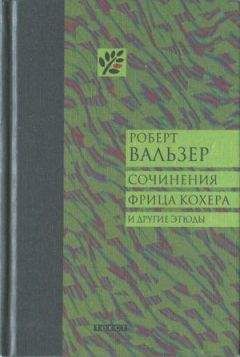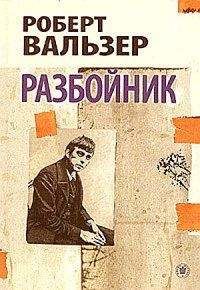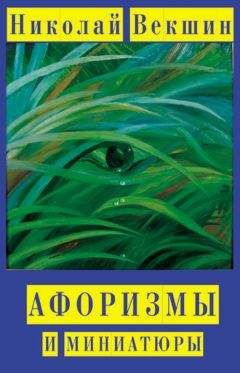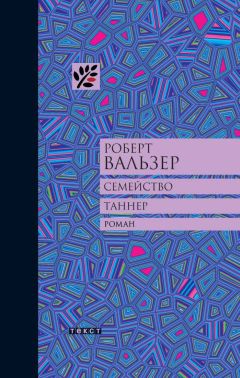Роберт Вальзер - Помощник. Якоб фон Гунтен. Миниатюры
Если только я не болен, а здоров и бодр, на что я горячо уповаю и в чем нисколько не сомневаюсь, то, значит, спокойно шествуя дальше, я дошел до сельской парикмахерской, с содержателем и содержимым которой у меня, пожалуй, не было причины связываться, поскольку, на мой взгляд, мне пока что не так уж необходимо стричься, хотя возможно, что это было бы очень приятно и забавно.
Затем я проследовал мимо сапожной мастерской, напомнившей мне о несчастном писателе Ленце, который в состоянии умопомрачения и умопомешательства выучился тачать и действительно тачал башмаки.[15]
Мимоходом я заглянул в приветливый школьный класс, где строгая учительница как раз спрашивала учеников, громко покрикивая на них, причем надо заметить, что мне вдруг неудержимо захотелось снова стать мальчишкой, непослушным школьником, снова ходить в школу и получать за свои шалости заслуженную порцию розог.
Раз уж мы заговорили о порке, то следует присовокупить: на наш взгляд, сельский житель, у которого не дрогнет рука срубить украшение пейзажа, красу его собственной усадьбы — высокое старое ореховое дерево, дабы выручить за него презренные дурацкие деньги, заслуживает того, чтоб его хорошенько высекли.
Потому-то при виде красивого крестьянского дома с растущим возле него великолепным и могучим ореховым деревом я звонко воскликнул: «Это высокое величественное дерево, так чудесно осеняющее и украшающее дом, обвивающее и облекающее его такой торжественной и радостной таинственностью, такой уютной и задушевной домовитостью, — это дерево, говорю я, подобно божеству, и тысяча ударов плетью причитается бесчувственному владельцу, коли он посмеет извести эту великолепную прохладительную листву ради того лишь, чтобы удовлетворить свою алчность — подлейшее из всего, что есть на земле. Подобных болванов следовало бы исключать из общины. В Сибирь и на Огненную Землю таких осквернителей и ниспровергателей красоты! Однако на свете, слава богу, есть еще крестьяне, которые, конечно же, не утратили чувство и понимание красоты и добра».
В том, что касается дерева, жадности хозяина дома, высылки его в Сибирь и порки, которой он, по-видимому, заслуживает за то, что уничтожает дерево, меня, пожалуй, немножко занесло, я должен сознаться, что не совладал со своим гневом. Между тем друзья прекрасных деревьев поймут мою досаду и присоединятся к столь энергично выраженному сожалению. А тысячу ударов плетью я, так уж и быть, возьму обратно. За грубое слово «болван» я и сам себя хвалить не стану. Оно заслуживает порицания, и я должен за него просить извинения у читателей. Поскольку извиняться мне пришлось уже неоднократно, я успел приобрести некоторый навык в этом роде вежливости. Совершенно ни к чему было говорить «бесчувственный владелец». По-моему, все это — воспаления ума, которых следует всячески избегать. Так или иначе, ясно, что скорбь о гибели красивого дерева я оставляю в стороне. Но выражение лица у меня в связи с этим будет злое, чего мне никто запретить не может. «Исключить из общины» сказано неосторожно, а что касается алчности, которую я назвал подлой, то я допускаю, что на сей счет и сам уже раз-другой тяжко грешил, ошибался и оступался и что конечно тоже не избежал некоторых скверностей и низостей.
Тем самым я веду игру на понижение, да так замечательно, что лучше и не придумаешь, однако такую игру я считаю необходимой. Приличие обязывает нас следить за тем, чтобы с самими собой мы поступали так же строго, как с другими, чтобы других судили так же мягко, как самих себя, — а уж последнее-то, как известно, мы всегда делаем невольно.
Ну разве это не умилительно, как я тут исправляю свои ошибки и заглаживаю проступки? Делая признания, я показываю себя миротворцем, а закругляя углы, сглаживая шероховатости, смягчая жесткость, выступаю как кроткий утишитель, проявляю понимание хорошего тона и веду тонкую дипломатию. При всем том я, конечно, осрамился, но все же надеюсь, что мне по крайней мере не откажут в наличии доброй воли.
Если же и теперь кто-нибудь все-таки скажет, что я беспардонный самодур и прущий напролом властолюбец, то я утверждаю: человек, заявивший такое, жестоко заблуждается. Ни один автор, наверно, не думает о читателе с такой неизменной робостью и почтительностью, как я.
Ну-с, так, а теперь я могу услужливо преподнести вам особняки или дворцы знати, и вот каким манером.
Я откровенно хвастаюсь, ибо такой полуразвалившейся помещичьей усадьбой и патрицианским владением, таким поседевшим от старости рыцарским замком и барским домом, как тот, что маячит теперь впереди, можно козырять, привлекать к себе внимание, пробуждать зависть, вызывать восхищение и стяжать почет.
Иной бедный утонченный литератор с превеликим удовольствием и радостью поселился бы в каком-нибудь дворце или замке с внутренним двором и въездом для господских экипажей, украшенных гербами. Иной сибаритствующий бедный художник мечтает время от времени пожить в прекрасной старинной усадьбе. Иная образованная, но, к сожалению, явно нищая городская барышня с меланхолическим упоением и неземным восторгом грезит о прудах, гротах, высоких покоях и портшезах и в разгоряченном воображении видит, как ей служат проворная челядь и благородные рыцари.
На барском доме, который я узрел перед собой, то есть скорее над домом, чем на нем самом, можно было разглядеть и прочесть дату «1709», что, разумеется, весьма подогрело мой интерес. С любопытством, близким к восторгу, я как естествоиспытатель и исследователь древностей заглянул в удивительный старый зачарованный сад, где в бассейне с красиво бьющим фонтаном сразу же обнаружил диковиннейшую метровой длины рыбу — одинокого сома. Точно так же я увидел, установил и в романтическом экстазе узнал садовый павильон в мавританском или арабском стиле, богато расписанный разными красками — небесно-голубой с таинственными звездами, а также коричневой и благородной, строгой черной. С тончайшим знанием дела я тотчас же вычислил, что этот павильон мог быть сооружен приблизительно в 1858 году, — такое умение выяснить, вычислить и вынюхать, возможно, дает мне право как-нибудь спокойно, с гордой и самоуверенной миной прочесть в зале ратуши, перед многочисленной и щедрой на аплодисменты публикой содержательную лекцию на эту тему. Ее, вероятнее всего, затем отметит пресса, что, разумеется, может мне быть только приятно, ибо она нередко много чего не удостаивает и словечка, — такое уже случалось.
Пока я тщательно изучал персидский павильон, мысли мои потекли по такому руслу: «Как здесь должно быть прекрасно ночью, когда все вокруг объято непроницаемой тьмой, черно, безмолвно и беззвучно, высокие ели прозрачно рисуются во мраке, полночная жуть приковывает путника к месту, и вот пышно разодетая женщина вносит в павильон лампу, разливающую мягкий желтоватый свет, а потом, повинуясь прихотливому вкусу и странному движению души, принимается наигрывать на фортепьяно, которым в этом случае, разумеется, должен быть оснащен наш павильон, всевозможные мелодии, да еще очаровательным голосом петь, — уж мечтать так мечтать! — а путник слушал бы и грезил, и эта ночная музыка переполняла бы его счастьем».
Но была отнюдь не полночь, и вовсе не рыцарское средневековье, и никак не пятнадцатый и не семнадцатый век, а светлый, притом будний день, и кучка людей вкупе с одним из самых невежливых, нерыцарственных, беспардонных и нахальных автомобилей, какие я только встречал, внезапно нарушила гармонию моих ученых размышлений и во мгновение ока так резко оторвала от замковой поэзии и мечтаний о прошлом, что я невольно воскликнул:
«Вот с какой невероятной грубостью мешают мне здесь предаваться созерцанию изящного и уходить мыслями в глубь рыцарских времен. Но хотя у меня есть все основания сердиться, лучше проявить кротость и вежливо все стерпеть. Как ни пленительны мысли об ушедшей красоте и грации и бледный призрак былого благородства, это вовсе не причина для того, чтобы повернуться спиной к современности и современникам. Нельзя убеждать себя, будто ты вправе сердиться на людей и порядки за то, что они не замечают настроения человека, которому захотелось углубиться в историю и в размышления о прошлом».
«Гроза здесь, наверно, была бы величественна, — думал я, продолжая свой путь. — Надеюсь, что у меня будет возможность ее наблюдать».
Славную, угольно-черную собаку, лежавшую посреди дороги, я почтил следующей шутливой тирадой.
«Тебе — молодцу совсем не ученому и не развитому, наверно, и в голову не приходит встать и приветствовать меня, хотя по моей походке и по другим моим манерам ты мог бы сразу заметить, что перед тобой человек, целых семь лет живший в крупных, столичных городах, где он ни на минуту, — не то чтобы на час или на неделю, на месяц, — не прерывал общения с людьми исключительно образованными и выдающимися. Ходил ли ты вообще в какую-нибудь школу, шелудивый приятель? Что? Ты и ответить не желаешь? Лежишь себе как ни в чем не бывало, таращишься на меня и даже ухом не поведешь, — монумент да и только! Ну и грубиян!»