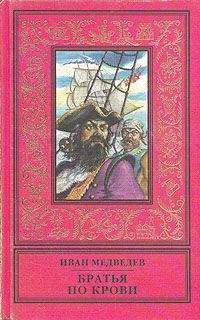Эдмон Гонкур - Жермини Ласерте. Братья Земганно. Актриса Фостен
— Нет, нет, — прошептала она, — не говорите мне ничего: ваши слова отвлекают меня, звук вашего голоса рассеивает, а я хочу смотреть на вас… смотреть и смотреть!
Вошла Генего.
— О, господи! Сударыня, там господин Бланшерон! Он хочет поговорить с вами… хочет подняться сюда во что бы то ни стало.
По лицу молодой женщины промелькнула тень недовольства, словно при неприятном пробуждении; наконец она уронила:
— Скажи Бланшерону, что я не могу принять его… что я лежу в постели с лордом Эннендейлом!
И, видя, что Генего не решается выполнить приказание, Фостен добавила повелительным тоном:
— Скажи ему это — слышишь?
Когда Генего вышла, купальщица взглядом указала Уильяму на фарфоровую скамеечку, стоявшую у самой ванны. Целомудренно скрестив руки на груди, лишь своими темными волосами прикасаясь к светлой шевелюре Уильяма, влюбленная женщина ласково, убаюкивающе покачивала головой, и бессвязные нежные слова, то и дело прерываемые долгим молчанием, выражали все ее волнение и радость. Внезапно она умолкла и отвернулась от того, кого любила. Уильям, наклонившись, заглянул ей в лицо и увидел слезы, счастливые слезы, медленно стекавшие к приподнятым уголкам улыбающихся губ.
— Какое странное счастье… кажется, я плачу, — сказала Фостен, проводя рукой по глазам. — Ах, уже четыре часа… Уильям, нам надо расстаться… Приходите за мной нынче вечером в театр… Генего передаст вам пропуск в маленькую закрытую ложу… Ну, уходите… скорее.
И когда Уильям собирался переступить порог, актриса, посылая ему воздушный поцелуй и обнажив при этом движении плечи и грудь, крикнула ему вслед:
— Милорд, сегодня Фостен будет играть для вас, вы слышите — только для вас!
XXII
Когда Фостен подъехала к театру, перед ним уже выстроилась бесконечная вереница людей, которая, извиваясь вдоль фасада со стороны улицы Ришелье, заворачивала за угол под аркадами и углублялась в улочку Монпансье, — шумная, жестикулирующая толпа, над которой стоял взволнованный гул голосов.
В результате споров, разгоревшихся после премьеры, Париж в ожидании этого второго спектакля был охвачен жгучим любопытством. Одни ставили новую трагическую актрису выше Рашели, другие видели в ней лишь посредственность, наделенную, однако, прекрасными внешними данными, превосходный инструмент, которым управлял старый маркиз де Фонтебиз, — словом, актрису искусную, но не умеющую глубоко чувствовать. В последние два дня дебют Фостен служил темой для разговоров и споров во всех кафе, гостиных, клубах. По поводу этого дебюта разгорелся бой и в газетах, причем вопрос ставился так: допустимо ли оживлять мертвую трагедию с помощью средств современной драмы, как сумела это сделать перебежчица из Одеона? И вот весь Париж решил собраться в этот вечер во Французском театре, чтобы вынести актрисе окончательный приговор.
Фостен поднялась к себе в уборную и начала репетировать роль, то и дело нетерпеливо посматривая на часы, лежавшие на туалетном столике, и прислушиваясь к отдаленному, все возраставшему гулу, доносившемуся до нее из зрительной залы и похожему на рокот волн приближающегося наводнения.
Вопреки своему обыкновению, актриса, не дожидаясь трех ударов гонга, побежала на сцену и прильнула к дырке в театральном занавесе. Взор ее, безразличный ко всем знаменитостям, сидевшим в зале, к строгим лицам стариков из первых рядов партера, ко всей этой бурлящей публике, заранее воспламененной ею, упорно искал сузившимся зрачком лишь один силуэт — силуэт, который должен был появиться за сеткой темной маленькой ложи.
В эти последние мгновения перед началом спектакля, продолжая пристально всматриваться в темный четырехугольник и убедившись в том, что ложа обитаема, она вдруг почувствовала какую-то приятную истому, какую-то слабость, как перед началом обморока, и ухватилась мизинцем за дырочку в занавесе, чтобы не упасть.
И когда, начиная сцену, актриса произнесла первые слова роли:
Энона, погоди! Помедлим здесь мгновенье,
И тело и душа мои в изнеможенье… —
все движения ее томящегося любовью тела, мягкие, проникновенные интонации голоса сразу отозвались в сердце всех влюбленных, сидевших в зрительном зале, заставляя их взором искать друг друга. Строки Расина уже не рассказывали публике о любви жены Тезея, они говорили Уильяму о любви Жюльетты. Под сенью лесов Греции она рассказывала ему о тенистых лесах Шотландии. И все ее дышавшие любовью слова были так явно обращены в сторону маленькой неосвещенной ложи, что головы зрителей ежеминутно оборачивались из партера, наклонялись с балкона, ревниво впиваясь взглядом в темный угол, где сидел никому не известный человек, чье лицо было трудно различить.
После первого акта Уильям зашел в уборную актрисы, чтобы ее поздравить, но она попросила его уйти.
— Не приходите больше, — сказала она, — я не хочу видеть вас среди этой равнодушной толпы… Ждите меня в моей карете после спектакля.
Во втором акте, во время любовного признания, актрисе, охваченной пламенем собственной страсти, на секунду изменил голос, но публика заметила в замирающем шепоте Фостен лишь волнение души, изнемогающей от глубокого чувства, и, быть может, никогда еще знаменитая тирада не производила на зрителей такого сильного впечатления.
Во время этого акта и всех последующих Жюльетта продолжала обращать слова своей роли к одному Уильяму. К нему относились все оттенки, все интонации бессмертного признания в любви и страсти. К нему устремлялись порывы восторга и нежности переполненной души. К нему была направлена горделивая радость актрисы, удовлетворенной удачей какой-нибудь строфы, вырвавшейся из глубины ее влюбленного сердца.
Криков «браво», аплодисментов, неистовства взволнованной залы, потрясенной правдивым изображением истинной страсти, Фостен не слышала, не видела, не замечала. Она целиком принадлежала одному человеку, и для нее не существовали ни оркестр, ни ложи первого яруса, ни галерея, ни амфитеатр, ни партер. Она видела две руки в белых перчатках на полуспущенной решетке маленькой ложи, и ничего больше.
Фостен сдержала обещание, данное лорду Эннендейлу: она играла для него, для него одного, доставляя самолюбию своего возлюбленного величайшее удовлетворение, какое может дать мужчине любовь актрисы, с нежностью приносящей ему в дар свой талант в присутствии двух тысяч человек, перед которыми она играла, но которых для нее словно и не было в зале.
Спектакль продолжался в атмосфере все возрастающего восхищения зрителей, а также среди удивления и даже изумления тех, кто был на премьере. Это была уже не та Федра, которую они видели два дня назад, — неукротимо чувственная Федра Еврипида. Сегодня это была Федра Расина, Федра, изнемогающая от любви и воркующая, как раненая голубка, — Федра учтивого двора, наследника древних цивилизаций.
XXIII
— Раво, домой… и не торопись! — бросила кучеру Фостен.
Она села рядом с Уильямом, и казалось, даже ее шелковое платье прошуршало о том, что эта женщина счастлива. Полные своим блаженством, они молчали. Они упивались тем ленивым сладострастием, которое обволакивает влюбленную чету в узкой карете, тем нежным и вкрадчивым волнением, которое струится от одного к другому, тем мягким и магнетическим проникновением одного тела в другое тело, одной души в другую душу, которое неизбежно в этой атмосфере безмолвного томления и горячей близости, возникающей от прикосновения женского платья, женской теплоты к сидящему рядом мужчине. Это какая-то особая интимность — и физическая и духовная, — интимность, расцветающая в полумраке, где беглые отблески уличных фонарей, проникая сквозь окошечки кареты, как бы заигрывают с женщиной, словно оспаривая у чудесной, возбуждающей темноты то щеку ее, то лоб, то какую-нибудь мелочь туалета, и на мгновение показывают вам таинственное лицо и глаза цвета фиалки. А покачиванье экипажа, убаюкивая тело и мысль, при каждом толчке заставляет женскую головку доверчиво склоняться на подставленное плечо. Без единого слова о любви влюбленные медленно ехали, подчиняясь неторопливому бегу лошадей. Уильям держал в руках руку Жюльетты, машинально перебирая ее тонкие, отвечавшие на ласку пальцы, гладя ее нежную, гладкую, чуть влажную кожу, ее теплую мягкую ладонь, и ему казалось, что в него незаметно переливается частица жизни любимой женщины.
XXIV
Дойдя до второго этажа особняка на улице Годо-де-Моруа, Уильям остановился, но актриса сказала ему:
— Выше, друг мой, сегодня мы будем ужинать в «каюте».
— А как же быть с гостями, которых сударыня сама пригласила на сегодняшний вечер? — с отчаяньем вскричала Гене-го, стоя в полуотворенных дверях столовой.