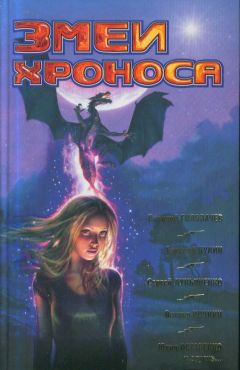Борис Житков - Виктор Вавич
Плюгавый совался, не поспевал за Ворониным.
— Здесь я, здесь.
— Здесь, здесь, запел тоже рыбьим голосом, — ворчал Воронин.
На мостовой городовые молча строились в две шеренги, и рогатый штык берданки шатался возле каждой головы. С крыльца сбежали еще двое квартальных. Воронин шлепал вдоль черного фронта — глухим голосом считал ряды. Старший городовой черной горой шатался сзади.
Виктор стоял на тротуаре. Он в досаде сверлил панель каблуком. «Эх, мне бы» — и хотелось крикнуть — он даже откашлялся — «по порядку номеров рассчитайсь!.. на первый и второй рассчитайсь!»
Воронин вышел из-за фронта, он шел к крыльцу и стал, повернулся, поглядел на Вавича. Вдруг быстрым шагом подошел вплотную.
— Иди, дурак, домой, иди скорей, сукиного сына, сейчас пристав придет, — зашептал Воронин. — Иди, тут такое будет… и черт его знает.
И Воронин махнул рукой и быстрым шагом зашлепал к крыльцу.
Городовые стояли недвижно, и шепота не слышно было.
Как черный забор стояли черные спины. И стало слышно, как треск лучины: где-то загоралась и затухала стрельба. Среди темной тишины.
Виктор повел плечами. Наверху хлопнули двери, и шевельнулись черные спины. Громко было слышно, как спускались по лестнице.
«Сейчас, сейчас», — подумал Виктор и задышал часто. Шаги стали. Виктор не оборачивался. Прошла секунда.
— А это что за франт? — крепко ударил в воздух голос пристава. — Марш в строй, нечего торчать! Виктор скачком шагнул с тротуара.
— Смирна! — скомандовал пристав. Городовые замерли, придавились друг к другу.
И тонко-тонко звенел вверху в участке в открытую форточку телефонный звонок. Прерывисто, тревожно, требовательно. Все слушали.
— Ряды! — произнес пристав.
И вдруг затопали сверху сапоги, не бежали, враскат катились вниз, и вот городовой размахом летел с крыльца.
— Что случилось? — крикнул пристав.
— Господин полицмейстер к телефону, чтоб немедленно, — запыхавшись, крикнул городовой.
Пристав злой походкой заспешил в участок. Люди зашевелились, легкий гул пошел над головами. Воронин подошел к крыльцу, стал боком, поднял ухо. Махнул серым рукавом на людей. Стало тихо.
— Слушаю. Виноват, как говорите? Только резерв? — слышно было в форточку.
Люди зашептали, загомонили глухим гамом, и только выкрики без слов долетали из форточки.
Воронин махал рукой, чтоб молчали, чтоб дослушать, но ровным гулом стоял говор.
— Смирно! — крикнул Воронин. Гул оборвался. Но сверху не слышно было слов. Воронин ждал. Люди замолкли. Опять стало слышно, как потрескивала стрельба вдалеке и где-то совсем близко прокатился воем по улице ружейный выстрел. Старший городовой подходил осторожными шагами, как по болоту, он стал в трех шагах, глядел на Воронина, на завернутое к форточке ухо. Прошло минут пять. Воронин не шевелился.
И вдруг:
— Разойдись!! — будто ахнуло что сверху и разбилось вдребезги. Люди не двинулись, замерли. Минуту молчали.
— Ну пошли! — глухо сказал Воронин. Он быстро затопал к крыльцу, приподнял спереди шинель, шагал через две ступени. Вавич спешил следом. Воронин толкнул дверь и тем же ходом зашагал к светлому матовому стеклу, к пристанской двери. Он схватился за ручку и на ходу буркнул: — Разрешите?
— К чертям! — как выстрелил пристав. Воронин отдернул руку, как от горячего.
— Что за е… ерунда, — шептал Воронин и в полутьме глядел на Вавича.
Иди
САНЬКА запыхался, расстегнул шинель для ходу — вон оно, крылечко, столовка. Нет, кажется, нет городовых. Никто не идет в столовку — опоздал, или закрыта. Санька вбежал на крылечко, еще ступеньки, еще дверь. Не поддается. Нет, вот туго пошла. Приоткрылась. Глядит в щель в папахе. Впустил. Битком. И вон по колено над всеми, оперся локтем в колонну, подпер рукой голову, в очках — Батин, наверно. Батин, насупясь, строго глядел очками — темными, может, нарочно. И волосы прямые косо висят на лбу. Вот, не спеша, говорит учительным усталым баском:
— …завтра, может быть, товарищи, меня уж не будет меж вами, — провел по лбу, откачнул волосы и строгими очками поводил кругом, — но я прямо вам говорю, что вовсе не близок победы час, и не голыми руками берут победу. Нет победы без жертв. И боя нет без крови. Заря взошла — в крови горизонт. Самодержавие не сдается даром.
Батин встряхнул вбок нависшую желтую прядь.
— Нет, товарищи! Бастовать сложа руки и отсиживаться по домам, когда там, — Батин вытянул руку над людьми и острой ладонью потряс вперед, — там люди, которым нечего терять, кроме жизни, люди эти вышли против штыков, вышли на смерть, на погибель, вышли умереть за лучшую долю…
Батин секунду молчал.
— …они погибнут, и мы ответственны за их гибель и смерть. И напряженный вздох прошумел над головами и летел к Батину.
— Но уж колеблются штыки…
И холодом, стальным вороненым холодом пало слово на все головы. Батин откашлялся. И пристальными зрачками глядела на него тысяча глаз.
— Товарищи, — вдруг новым голосом сказал громко Батин, — мы вышли на революционную дорогу и отдали руку, — Батин вскинул руку, — рабочему классу!
И снова опустил брови, и одни очки блестели из лица.
— И завтра же нам придется быть в бою… ни на шаг позади, — совсем глухо сказал Батин.
Он замолчал и медленно обводил взглядом лица.
— Прощайте, товарищи, — еле слышно сказал Батин, он слез вниз, и голова его потонула в толпе. Все молчали, и тогда стало слышно возню у дверей. И вдруг загудели, заплескали голоса. Все глядели на двери, как они распахнулись, — вошло несколько человек студентов. Санька стоял на подоконнике, он глядел туда, где стоял Батин, тряс головой.
— Героем каким, — шептал Санька. — А, может быть, настоящий. — И зависть горячей кровью бросилась в грудь, в лицо. — Сделать такое что-нибудь, чтоб прямо… и язык потом ему показать. Нет! А просто не посмотреть. — Санька слезал с подоконника, среди гула голосов кто-то выкрикивал резким голосом:
— …освобождения арестованных…
— …до Учредительного…
Санька пробивался к двери.
Санька сбежал с крыльца, глядел под ноги, круто повернул влево и быстрым шагом заспешил прочь.
«И тужурка у него, — думал Сань��а, — поверх русской рубахи, волосы, очки… рисуют таких. „Ничем не жертвуете!“ Наверно, чем-нибудь пожертвовал и теперь уж назидательно». — Санька греб ногами землю все жарче и жарче. — «Кого арестовали, сидят теперь героями; потом выйдут и будут по домам ходить и все с почтением. Ах, подумаешь, какой! К нам — „ах“ — пришел. А он этак недоговаривает, чтоб подумали. А его в куче забрали, на углу стоял». Санька шел все дальше, куда несли ноги. И все резкий, крепкий тенор этот стоял в ушах: «бастуем до Учредительного»… — и это уж затвердил как дьячок… Санька вдруг круто повернул назад. Он почти бежал назад к столовке. Студенты сплошной струей валили с крылечка. Санька, красный, голова потная и зубы сдавлены, пробивался сбоку перил против густого хода. Еле вломился в дверь, вскочил на стул, губы дрожали чуть — черт с ними, с губами. Санька злыми глазами, запыхавшись, обвел кругом — все глянули, и видно, как тревога ударила во все лица.
— Товарищи! — крикнул Санька. Все стихли, ход в дверях застыл. — Вот вы… мы то есть, все, — выкрикивал Санька со всего голоса и видел, как все потянули головы к нему, на спешную, на орущую ноту, — все ведь подымали руки — бастовать до Учредительного собрания? Да?
Санька глядел на всех и на миг было совсем намертво тихо.
— Так почему же бумаги ваши в университете? Чего ж бумаги не взять всем! из канцелярии! Документы! Заворошились голоса.
— А чего? — кричал Санька с силой, с злобой. — Ведь коли всерьез, а не для слов, для красных, так чего там! Коли до Учредительного собрания, так ведь оно всех обратно примет! В первую голову!
А гул уж громко пошел волнами, выше, и Санька спешил докричать:
— А если не берете бумаг, так значит ерунда одна! Хвастовство! — Санька уж рвал голос и знал, что не перекричать толпы — «лазейку! да! трусы! хвастуны! тьфу!» — Санька плюнул на этом себе под ноги и соскочил на пол, его вжала в себя струя, что уж снова прожималась в двери. Санька ни на кого не глядел и знал, что сейчас такая у него рожа, что всем видно. И черт с вами, глядите — до самого Учредительного собрания. Санька вырвался из толпы, перешел сразу на другую сторону и не знал даже, шел ли он, будто без ног двигался, свернул в улицу, студентов попадалось меньше, Санька обгонял их. Городовой, отворотясь, смотрел вбок. Вон квартальный в воротах, в глубине, не высовывается, глядит, поднял брови. Санька уж шел по Дворянской. Он сбавил ходу, застегнул шинель, хоть был весь мокрый. Наладил дыхание. Он видел, что идет к Танечкиному дому, прогнал себя мимо — «Что это вдруг с бою, подумаешь» — он уже дошел почти до угла и вдруг повернул и спешным ходом пошел прямо к Таниной парадной.