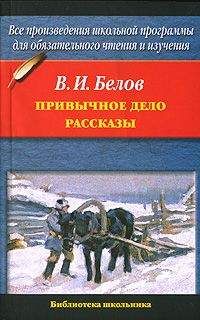В. Белов - ДУША БЕССМЕРТНА
Поезд очень долго вырывался из хвойных объятий, пока утром однажды тайгу не сменили ясные лесостепи, с березовыми прозрачными рощицами, ровными полями и скирдами обмолоченных злаков. Березовые колки тянулись за поездом долго и настойчиво, пока не показались вдали призрачно-серебристые горы.
И я вспомнил тогда, что эти грандиозные расстояния похитили у меня пять часов жизни. Странно, но это было действительно так: если не возвращаться обратно, то я проживу в этом мире на несколько часов меньше. Парадокс времени толкает людей к философским раздумьям, но жизнь всегда интереснее отвлеченных понятий. Наш поезд остановился и долго стоял в преддверии Байкальского моря. Невдалеке, на одном из поворотов встречный грузовой поезд сошел с рельсов: мы ждали, пока рабочие не подняли паровоз домкратами и не водрузили его на место. Полотно дороги лежало в глубоких скалистых выемках, казалось, что громадные каменные глыбы, висящие над дорогой, держатся чудом и вот-вот обрушатся. Но даты, изображенные на скалах, говорили о том, что глыбы десятки лет неподвижно висят над дорогой.
Люди самоутверждаются по-всякому, в том числе и подобным образом: большие несколько прямолинейные надписи, изображения инициалов и восклицательных знаков были, вероятно, следами строителей и туристов, — вспоминались строчки из блоковского «Соловьиного сада»:
Я ломаю слоистые скалы…
Скалы были действительно слоисты, мне, равнинному северному жителю, была непонятна раньше эта строка.
Говорят, что в Байкал впадает более трехсот речек и рек. Чистые, словно детские слезы, эти реки питают пронзительную голубизну Байкальского моря. Поезд несколько часов бежал по голубым прибрежным извивам, пересекая эти прозрачные речки.
Долго, очень долго шел мой поезд. Пространства Сибири и Забайкалья будят противоречивые чувства, в душе почему-то тревожно от того, что еще пустуют эти безбрежные и богатые земли. Но природа своей могучей полой вновь отгораживает тебя от этих раздумий…
Рыже-зеленые, округлые, словно облизанные веками холмы Бурятии, бесконечные гряды холмов, зеленое Приамурье — непостижимое богатство ландшафтов, разнообразие всех поясов, всех климатов. Еще на станции Ерофей Павлович был иней и холод, а уже в Хабаровске тот же Ерофей Павлович стоял на теплой, несмотря на раннее утро, площади, и люди ходили в одних костюмах. Могучий и добрый казак, мой земляк Ерофей Хабаров стоял на каменном постаменте. На нем была шуба с борами, он как бы улыбался в густую бороду. Я поздоровался со знаменитым устюжским землепроходцем и сразу же попрощался: мой поезд спешил дальше, к самому морю. Приближался сто тридцатый меридиан, но стога, стоявшие на полянах вдоль дороги, были точь-в-точь такие, как на моей родине.
В гостинице «Приморье» мест не оказалось, ночевать пустили с великим трудом. Я подписал хитрую бумагу, обязывающую покинуть «Приморье» до девяти утра. Гостиница «Челюскин», по-видимому, соревновалась в гостеприимстве с «Приморьем», ее администраторша отослала меня в другую гостиницу с не менее романтическим названием: «Золотой рог». Но и в «Золотом роге» мест не было, он вежливо боднул меня, выпроваживая на улицу.
И все же Владивосток изумительный город. Наверное, надо совсем утонуть в будничной текучке, чтобы не замечать этих светлых улиц, то взмывающих высоко на холмы, то спадающих вновь к заливам и бухтам, этих мощных, обросших лесами сопок, этих шумных причалов, где шлепаются сине-зеленые волны. Однажды, получив обмундировку для моей двухмесячной службы и при помощи флотской газеты устроившись на ночлег к морякам-подводникам, я вышел к Амурскому заливу. И то ли от мягкого тугого ветра, то ли от восторга перед всей этой красотой, у меня перехватило дыхание. Веселый город выбежал на высокий каменный берег и затих, словно из уважения к морскому шуму. Море посылало к берегу бессчетные свои волны. Белые яхты с косыми треугольными парусами, кренясь, на галсах пробивались навстречу ветру, другие бесшумно неслись в обратную сторону. Цепи сопок неясно обозначились в сиреневой дымке. В зеленых волнах лениво качались нерестящиеся медузы с изображениями двух перекрещивающихся восьмерок. Мальчишки, не боясь ожогов, ныряли с пирса прямо к медузам. Около спортивной станции «Водник», где торчали свинцовые кили перевернутых яхт, я увидел пожилую чету: он жилистый и тощий, как Дон-Кихот, она с бурым лицом — могучая и дебелая. Оба» игриво и добродушно подшучивая друг над другом, полезли в воду. Где-то недалеко, вторя морскому прибою, вздыхал набитый болельщиками стадион, футболисты местной команды «Луч» играли со своими дублерами. Здесь, на краю России, все было так же, как в Москве или в Вологде. «Козел! Верблюд» — кричал мальчишка лет десяти, как видно заядлый болельщик. Другой ругал дублеров «дубами», но дублеры все равно выиграли, и мальчишки, не дожидаясь конца матча, с возмущением покинули стадион.
Я тоже вышел с ними и еще раз прошел вдоль залива. Солнце, усталое от собственной ярости, скатывалось за дальние сопки, ветер стихал. А пожилая чета была все еще на прежнем месте. Они в обнимку сидели на деревянном настиле и очень красиво пели какую-то не знакомую мне украинскую песню. Прибой с шипением омывал их до пояса. И столько доброты, доверия и верности друг другу было в их песне, что я опять с горечью вспомнил одну женщину, ехавшую, видимо, из отпуска, в нашем вагоне.
Она производила довольно приятное впечатление. Светло-синие глаза и черные волосы, книга стихов в руках и вполне уместные реплики в разговоре о театре. И если б не излишняя полнота да еле различимые морщинки у глаз, ей можно было бы дать не более тридцати. Наверное, тот молоденький лейтенант, уезжавший из Москвы в парадной форме и с кортиком, не замечал этих морщинок, ведь мы склонны замечать только те физические недостатки, которые есть у нас самих. А на лице лейтенанта не ночевала еще ни одна тень или морщина. Вероятно, женщине с поезда больше всего и импонировало это, в общем-то не такое уж и плохое обстоятельство. Большую часть совместного пути она провела с лейтенантом в вагоне-ресторане. Лейтенант сошел с поезда чуть позже ее и наверняка совсем без денег. Но я до сих пор не понял, кто же из них и за кем ухаживал больше? Было приятно наблюдать их милое, стремительно развивающееся знакомство, я даже не испытывал чувства неловкости, связанного с нескромностью этого наблюдения. Люди нравятся друг другу, им приятно быть вместе — что тут плохого? Но на полустанке, где за полночь сошла эта синеглазая женщина, поезд ожидала группа военных. Среди них был и ее муж, высокий офицер в зеленой фуражке пограничника. Я не различил, сколько звездочек было на погонах высокого офицера с усталым лицом, не видел и того, какие были глаза у его жены, вернувшейся из московского отпуска. Друзья офицера бережно подхватили ее чемоданы.
Верность, а что это такое? Люди испокон веку презирали предателей, и нет ничего страшнее такого презрения. Есть солдатская верность Родине и народу, вскормившему нас. Есть материнская верность, о которой даже никто не говорит, так она естественна сама по себе. Есть верность сыновья, нежная и, может быть, чуть застенчивая; есть благородная и немногословная верность в мужской дружбе. Но есть и еще одна верность — верность в любви. Ее высокое постоянство необходимо людям как хлеб и как воздух. Без этой верности рушится все на свете, она утраивает сопротивляемость человека невзгодам, верность делает нас сильнее, чем мы есть на самом деле. Но среди непреходящих человеческих ценностей, это понятие может быть самое беззащитное. Даже неопытный демагог может легко поставить его под сомнение. Однажды снисходительно назовет верность в любви устарелым, косным человеческим свойством. И вот мы, боясь оказаться несовременными, уже ступаем по фальшивому следу. Ступаем с необъяснимой поспешностью, бездумно, отрекаясь от собственных ценностей, иначе от самих же себя. Разве не так разрушались и разрушаются и другие ничем не заменимые человеческие ценности? Вероятно, самое главное в этом нечистоплотном деле — это поставить истину под сомнение. Ведь, посеяв сомнение, можно уже спорить, можно полемизировать, а там… Там еще неизвестно, чья возьмет. Не менее удачный способ подобного разрушения и в том, чтобы поставить в один логический ряд разновеликие ценности, компрометируя подлинные и возвышая фальшивые. Я думал об этом, уезжая в автобусе на одну из военных баз.
Суровость морской, тем более военной службы ощущается еще на берегу, вдалеке от боевых кораблей. Я смотрел на все глазами непосвященного и то и дело ловил себя на чувстве глубокого уважения к труду моряков, к их нелегкой службе, полной не мнимых, а явных опасностей. Море спокойно плескалось и мерцало в живописной, окруженной зелеными сопками бухте. Силуэты кораблей были недвижимы в этом мерцании. Их крутые, серо-стального цвета бока растворялись в сиренево-солнечной мгле. Мичман, у которого я спросил, как пройти по нужному мне адресу, ничего не ответил: здесь не принято изъясняться с незнакомыми личностями. Я нашел контрольно-пропускной пункт части по собственной интуиции и остановился у автоматического шлагбаума. Матрос, вооруженный пистолетом, знакомится с моими документами, звонит куда-то и пропускает. Затем короткая беседа с дежурным офицером и опять проверка документов. Перед выходом на корабль она повторяется еще раз.