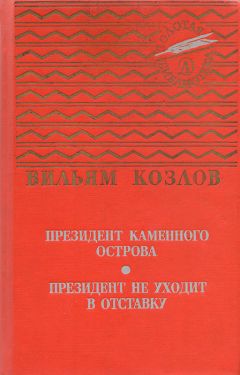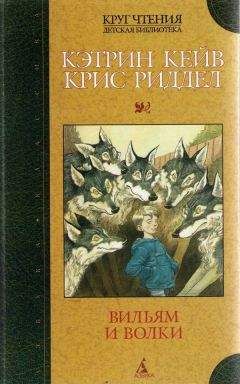Вильям Хайнесен - Избранное
— Вот и я говорю, — соглашается Корнелиус. — Только как мне его потом домой-то отнести, этот клад?
— А этого тебе вовсе не нужно делать, — говорит Матте-Гок, твердо кладя руку на плечо Корнелиуса. — Когда понадобится отнести его домой, я сам приду и тебе помогу. Нет, Корнелиус, завтра вечером тебе и выкапывать его не нужно. Только рыть до тех пор, пока не упрешься лопатой в медь. А после этого пальцем начертить на крышке три креста. Три креста, как на пузырьке с ядом. Понял? Это очень важно, три креста, это называется пометить клад. Я тебе заранее ничего не сказал, потому что об этом полагается говорить лишь в самый последний момент. Как пометишь клад, так он больше никуда не денется, и мы с, тобой можем потом вместе его вытащить и где-нибудь припрятать.
— Ну, тогда совсем другое дело! — с облегчением говорит Корнелиус. — А то я все думал, господи, что же я один стану делать с таким тяжеленным ящиком?
— На-ка вот тебе, — говорит Матте-Гок и сует ему в руку что-то маленькое и твердое, — держи, это железное кольцо, но ты его на палец не надевай, просто имей при себе, ну хоть в кармане. Это мой талисман. Пока он с тобой, ты неуязвим. И если найдет на тебя какое сомнение, слышишь, Корнелиус, достань кольцо, обхвати его ладонью и сожми покрепче — сразу все как рукой снимет. Ну а теперь мне пора, мы с Анкерсеном слово божие идем проповедовать.
— Подожди минутку, — взволнованно говорит Корнелиус. — Понимаешь, Матте-Гок, мне бы гораздо легче стало, если б ты согласился хотя бы поделить со мной добычу!
— Мне-то она ни к чему, — улыбается Матте-Гок, — но раз тебе так приспичило, давай договоримся, что я получу пятую часть за то, что немного тебе подсобил. Но я тебя и дальше не оставлю, помогу довести дело до конца, это непременно. Ну, Корнелиус, желаю удачи, и помогай тебе бог!
Вечер, когда справлялся мальчишник, стал одним из самых достопамятных вечеров в истории «Дельфина». Он ярко и празднично раскрыл тот мир, который не дано было узнать чахлому племени эпохи сухого закона, мир, бросавший вызов бездушной стихии зависти, злобы и чванства, столь характерной для небольшого городка.
Эх, молодежь, вы, что взросли в худосочной части города с ее молельными домами, гостиницами для трезвенников, благопристойными лавчонками да плакатами с полицейскими предписаниями, не довелось вам слышать мощные раскаты громового пения и грохот кулаков о столы, звон стаканов и сумбурные излияния блаженных душ, не довелось быть свидетелями дружбы и любви, рукопашных баталий, всепрощающих слез и преданности, которыми бурно полнилось эстремовское питейное заведение, когда выпадал один из его коронных вечеров!
Не знали вы Оле Брэнди во дни его былого могущества, не видели, как его серьги золотыми молниями сверкали сквозь клубы пара и табачного дыма во вместительном погребке для мужчин, том самом, что прозывался «Поварней». Не видели вы жара хмельной неги в его глазах, не слышали, как он поет печальную балладу об Олиссе. Не слышали вы и диких изумленных воплей, перекрывавших всеобщий гвалт, когда кузнец Янниксен оттопывал свой грандиозный одиночный танец. Невозможно вообразить себе сверхчеловеческую силу и страсть, с которыми извивал свои богатырские телеса в тяжелом от испарений воздухе этот ликующий исполин, до самых краев души полный сладострастного сознания собственной мощи, между тем как разухабистые обрывки стихов и песен и богохульные выкрики нескончаемым потоком извергались из его груди.
Тайная цепь бесстрашных морских волков со всех сторон окружала вошедшего в раж мамонта, следя за тем, чтобы он не разнес ненароком весь дом, а когда представление окончилось, — кузнеца оттащили в боковую комнатушку, чтобы он спокойно и мирно набирался сил для тяжких трудов грядущего дня. Оле Брэнди поставил возле его ложа полный стакан вина.
Когда Оле вернулся в Поварню, там затевалось нечто совершенно непредвиденное и выходившее за рамки программы: сквозь дым и пар он различил очертания управляющего сберегательной кассой Анкерсена и сына его Матте-Гока.
«Приберу-ка я их к рукам», — подумал Оле Брэнди. Он силком усадил непрошеных гостей за стол и налил им по кружке пива.
— Надеюсь, оно безалкогольное? — спросил Анкерсен и, не дожидаясь ответа, осушил свою кружку, потому что чувствовал сильную жажду. Матте-Гок к пиву не притронулся. Анкерсен тут же взялся обрабатывать Оле. Протирая свои очки, он говорил тихим проникновенным голосом:
— …И чем же все это кончится, а, Оле? Можешь ты мне сказать?
— Молочком, — ответил Оле.
Анкерсен нацепил очки на нос и непонимающе захрипел, а Оле в веселом возбуждении продолжал:
— Молочком-то? А это как упьешься до того, что совсем тебя расплющит, ровно камбалу, и вроде не можешь больше пить, а и отстать, однако же, не можешь, будто в тине увяз и ни туда ни сюда… Тогда, значит, берешь горшок молока и разом — бух в себя!
— Молока? — подозрительно переспросил Анкерсен.
— Ну, не чистого, понятно, молока, — пояснил Оле. — А ты думал, безо всяких примесей? Катись ты, чай тебе помойный в глотку, нет, брат, добавочка нужна самолучшая, чтоб первый сорт, к примеру густой белый ром. Зато уж чистехонек станешь нутром-то, что твой новорожденный ягненочек, злого не помыслишь, слова вздорного иль бранного не скажешь, приличным человеком на время заделаешься: ни рычать больше не будешь, ни скулить, ни клыками ядовитыми в порядочных людей впиваться, ни молодых девушек насмерть запугивать, ясно тебе, пес бесноватый? А ты, Матте-Гок, кто твой отец, черт вас разберет, только не этот фрукт, не думай! И еще напоследок я вам скажу такую вещь, которая одна десяти стоит…
Анкерсен прервал речь Оле Брэнди, начав громогласно кашлять и шумно двигать своим стулом. Он хищно кивнул Матте-Гоку, оба поднялись с места и запели во всю силу своих легких. В Поварне воцарилась вдруг тишина, все огорошенно слушали их пение. У Матте-Гока был красивый, сильный голос, а Анкерсен скорее кричал, чем пел:
Слепой прозрел, спасен упованьем,
Глухой услышал слова Писанья,
Немой запел в святом ликованье,
Бегом побежал параличный…
Оле Брэнди тоже слушал, удобно развалясь на стуле. Но когда миссионеры допели до конца свою длинную песню и Матте-Гок по знаку Анкерсена выступил вперед и собрался еще произнести проповедь, тут уж порядком захмелевшему Оле стало невмочь дольше терпеть, он вскочил и нанес молодому стервецу хорошо рассчитанный удар в челюсть. Для Матте-Гока это явилось совершенной неожиданностью, он рухнул навзничь, растянувшись на полу во весь свой рост.
— А теперь вон отсюда! — рявкнул Оле, подступая к Анкерсену с налитыми кровью глазами.
Анкерсен, причитая, склонился над сыном.
— Тебе очень больно, Матиас Георг? Бедный, бедный, но ты ведь сможешь подняться на ноги, ты у меня крепыш, правда? Постарайся, сынок, и уйдем отсюда. «Выше голову, парень бравый!»[50] Нет-нет, спокойно, на первый раз нам придется отступить. Но это была всего лишь проба. Пошли! Нам надо домой, набираться сил!
— А ну, пошевеливайтесь! — рявкнул Оле Брэнди. — То-то же! А ты, Иеремиас, давай-ка запри эту дверь на ключ да налей нам всем по двойной, чтобы было чем палубу начисто выдраить!
2. Другие тревожные предзнаменованияВ день свадьбы погода стоит прекрасная, настоящее бабье лето: солнце, глубокая синь неба и нежные барашки облаков, первозданно чистые и аппетитные, как собравшиеся складками сверху простокваши сливки.
Фру Мидиор, старая экономка Анкерсена, выходит на крыльцо домика управляющего сберегательной кассой, завязывая под подбородком ленты черного чепца, и замирает при виде этой лучезарной небесной чистоты. Ах, глаза не те стали, в такой день это сразу замечаешь, в воздухе какое-то мерцание, какие-то фигурки поднимаются и опускаются, филигранно отчетливые, верткие, причудливых форм, похожие на заколки, ноты, крючки и петли… быть может, все это что-то означает, фру Мидиор волнуется, ночью сон видела нехороший. А тут еще утром из больницы прислали сказать, чтоб она непременно зашла проведать свою сводную сестру Уру. О чем это Уре вздумалось с ней говорить? Обычно она ведь не очень-то и рада, когда к ней приходят.
Но Ура вообще стала еще более взбалмошна и сумасбродна, с тех пор как свалилась в пропасть и покалечилась. Ах, Ура ужасна в своей несправедливости и ожесточении. Подумать только, она ведь так и не желает видеть собственного сына, Матте-Гока. Он к ней несколько раз заходил, и один, и вместе с Анкерсеном, но она только отворачивается, строит из себя глухую и слепую, одеялом с головой укрывается. Да что там, она даже имя его гнушается произнести. Он для нее совсем не существует. И никто не знает лучше фру Мидиор, как расстраивается из-за этого бедный мальчик.