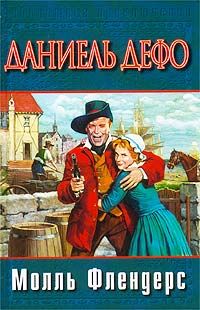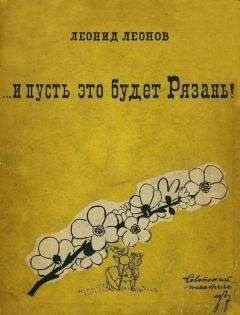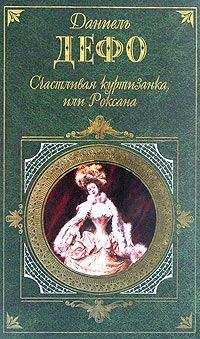Леонид Леонов - Вор
Все это своими глазами видел Митя Векшин, пока добирался со станции к Демятину — где прямо по путям, а где вдоль насыпи, некошеным откосом с опрятной тропкой. Окрестная луговина вокруг, населенная разнообразной жизнью, издавала ровный гул, и все же стояла великая, полдневная тишина, потому что все там было связано воедино — стремглавые в синей бездне облака, ветровые волны по травяному подсыхающему шелку, самозабвенно стрекотавший кузнечик и птица, что неслась вверху крылом вперед, падала и взвивалась вновь, начисто растворяясь в буйном ликовании жизни… Один Векшин чувствовал себя чужим здесь, избегал встречных с их нежелательными расспросами и, как ни тянуло его, не посмел подняться на знаменитый, над Кудемой, мост, где стоял теперь часовой. Временами Митя не мог припомнить места, и место тоже не признавало Митю.
С этим чувством спустился он к темной, под ольхою, неприветливой воде и, присев, опустил в нее раненую руку. Все чудесно остановилось — боль, мысли, самый неспокой. Забытье охватило его сразу, едва раскинул тело по склону, и сытная земная прохлада потекла по нему. Будто сквозь дрему позвали по имени, и он не откликнулся, хотя еще видел качавшуюся сквозь ресницы, убегавшую в небо травинку.
Пробуждение его было внезапно и тревожно. Горело обожженное лицо, непонятное отчаянье томило. Шла буря, — прибрежные кусты почти ложились наземь под вихрем, белые гребешки бежали по реке. В бурю Кудема менялась, — рябая и враждебная, она злилась и брызгалась на Митю, точно это он собирался впрягать ее в серебряные вожжи… Синяя, посверкивая и громыхая, туча выметывалась на демятинский луг, когда путник добрался до отцовского дома.
Кроме свежего пня на задворках да пристроенного крылечка, почти не было здесь новшеств: человечьим голосом распевала на ветру калитка. Митя застегнул ворот рубашки, пообдернулся и с обнаженной головой вступил на порог. Сердце его сжалось — никто не окликнул вошедшего, и не сидел на лавке старый Егор, как того страстно хотелось. В спертой избяной духоте стояло ровное мушиное гуденье.
— Есть кто дома-то? — оповестил о своем приходе Митя.
Тотчас на печи заперхало и зашевелилось. Сперва свесились босые жилистые ноги, потом такие же узловатые руки обшарили воздух, и под конец показалась белая борода в темном иконописном лице, — не Егор, даже не тень Егорова.
— Я сам завсегда дома, в самый раз, — сказал незнакомый старик, вглядываясь в Векшина со своих печных высот. — Ты не паромщик ли?
— Нет, я не паромщик, — еще не веря, сказал Митя. — Я так, прохожий…
— То-то я и вижу, что не паромщик. Того еще как в ерманскую призвали, так и не воротился. Верно, убили… а может, при должности где! А я лежу, слышу ровно голос паромщика… — И еще раз строго посмотрел на Векшина.
— Нет, я не паромщик, — с тоской и горем повторил тот. — Не знаешь ли, отец, куда Векшины отсюда перебрались?
— Не слыхал таких, — зашамкал, затарахтел старик, подумав. — Вот Серегу-ямщика знаю, которого сынок на Кудеме мастерит. Ладит, вишь, огромадпое колесо на речку поставить, зерно молоть и чтоб заодно свет от нее исходил, от воды. А откуда ему взяться, вода-т не керосин, чай… Шагать в Сибирь голубчику, как казенные деньги изведет. Оно так, ихнему роду Сибирь привышняя, в Сибири у них кладбища искони. У мепя самого оба племянника там, на поселении, да дочка с зятем… зажитошно живут. Вот и охота мне перед усилением внучатков потормошить, а вишь, не дадено. Лежу, и мухи меня едят… — И верно, мухи вокруг него так и вились; время от времени он наугад ловил стайку и привычно тискал в горстке, но те без поврежденья вылетали из ослабевшего кулака. — Обещался снохе путевый мастер билетец исхлопотать, к внучаткам, а то пешком из-за ног хлопотно уж больно. Ох, много ими хожено, много камени попрано. Я камнетесом в Перму состоял… пристань Ялабурх на Каме, не слыхивал? Поди, горы две, а то и с половиною, за пятьдесят-те годов расколол… карточку сы-мали с меня и рупь денег дали. Все там самород-камень, и на верху камня черква сложена на манер водокачки. Черти, сказывают, участие принимали, но заклятию…
Старому да одинокому, ему лестно было потолковать со смирным человеком, что стоял теперь перед ним едва ли не навытяжку, мучительно вникая в рядовую человеческую повесть. От постоянных потемок, что ли, глаза у старика были не по-крестьянски большие, в их тускнеющей поверхности с удивительной четкостью отражалось все то, что за ненадобностью уже не проникало глубже, в ум и сердце, — оба окошка с цветущими бальзаминами в черепках, и буря за ними, чесавшая ливнем посеревшие космы берез.
Вернувшаяся вскоре стрелочница, сменившая Егора в его сторожке, удачно вспомнила о новоселах Векшиных в Демятине. Мите хотелось есть, голод немножко ослабил его отчаянье. Заслышав голос снохи, старик поспешно втянулся назад, в свою запечную нору, и затих.
Митя вышел наружу. Гроза уходила, только в роговской стороне, на проясневшем охолодавшем небосклоне еще свисали лохмотья дождя. Зато крупные капли дружно накрывали сверху, с деревьев, при самом легчайшем дуновении ветерка. Дорога в Демятино шла лесом. Вечер приступал ясный и свежий. Митя продрог и вымок, прежде чем добрался до места.
II
Солнце садилось за спиной, и в сизой дымке обильно подымавшихся рос багровым видением проступила знакомая колокольня, когда Векшин выбрался на демятинскую пойму. Он ускорил шаг; тень опережала его, рвалась под родную кровлю. И, видно, под влиянием жизни такая образовалась у него за годы скитаний беззвучная походка, что ни одна собака не облаяла гостя, только теленок встретил равнодушным мычаньем в прогоне меж высоких плетней. Волглая благостная тишина стояла над селом… как вдруг перед самым носом Векшина проскочили две молодайки навеселе да лихой старик с прицепной льняною бородою, судя по хохотку — их же ряженая подруга. Все трое помахивали платочками и голосили непристойную песню. Тут же, галдя и сшибаясь, мальчишки перебегали улицу, спеша на выселки, откуда донеслась и погасла осатанелая гармонная трель.
Векшин придержал за плечо меньшого, поотставшего из-за огромных, не по возрасту, сапогов.
— С ума, что ль, повскакали у вас православные-то? — удачно вспомнившимся местным говорком спросил он.
— Не мешай веселиться, сестру замуж выдаем… — отбился тот с воодушевлением и помчался догонять, прихватывая за ушки свою пахнущую дегтем гордость и обузу.
Целью их был третий от края выселок дом со старинной поветью, крытый древней и темною соломой. Глухой топ, шум и песня сочились сквозь настежь открытые, облепленные ребятишками и щедро освещенные окна. Необъяснимое чутье заставило Векшина подняться на крыльцо, разукрашенное пестрыми лентами… и с этой минуты все покатилось к тому, чтобы полнее нацедился положенный блудному сыну стакап горечи.
С моста и до сенника все было сплошь забито народом, но Векшина пропускали сразу, чутьем угадывая в нем запоздавшего и важного, несмотря на мокрую, невзрачную одежду, гостя. Его протиснули в передний ряд зрителей, так что даже пришлось потесниться назад, за чью-то спину, чтобы не привлекать липучего мирского внимания. Образцовая гульба русской свадьбы была в самом разгаре. За столом с надменным видом помещались дружки, сваты, надутая невестина родня, кроме того суровый здешний, при полном вооружении милиционер, прочие же, соседи и просто зеваки, безобидно примостились на корточках, на полу, чтобы без помехи наблюдать за ногами неказистого мужичонка, выполнявшего довольно сложный танец посреди содрогавшейся горенки. Плясун то вскидывался вверх, норовя прищелкнуть ладошками по голенищам, то похрамывающим шажком плыл в предоставленном ему кругу, то, наконец, совершал махательные движения руками, как бы собираясь улетать от земных печалей. И не то было примечательно, что все это вписывалось в задыхающуюся от быстроты музыку, даже не новые калоши на сапогах, не только не обременявшие танцора, а напротив — вдохновлявшие на еще более замысловатую деятельность, а то, что делал он все это с остановившимся, куда-то в сторону устремленным лицом, как если бы сам себя наблюдал при исполнении осточертевшей свадебной обязанности. С точно таким же видом трудились и гармонисты, двое, сидевшие под потолком на печке; особо приставленный мальчик время от времени подкреплял их самогоном чистейшей выгонки.
У Векшина было достаточно времени рассмотреть жениха. Невысокий и болезненного сложения, тот восседал рядом с красавицей, какими издавна славилось Демятино. Он один не глядел на пляску, раздумье придавало странную старообразность его не по-деревенски тонкому лицу и озабоченность — рассеянному взору из глубоко запавших глазниц, как у людей неотвязной, сжигающей или не совсем чистой мысли. Заметив пристальное векшинское вниманье, он принялся приглаживать начес на лбу, пока не вспомнил что-то. Вдруг, сделав знак молчания музыке, он стал выбираться из-за стола, — во избежание какого-либо поврежденья ему пришлось стороной обойти плясуна.