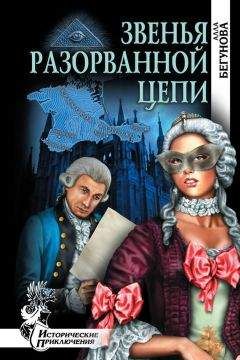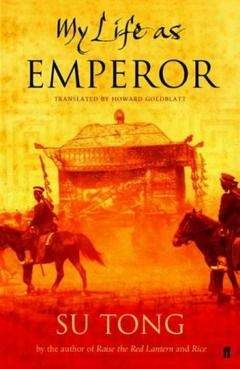Лион Фейхтвангер - Сыновья
Одного здесь нет. Одному должен он сказать, что теперь выздоровел и вместе с потом изгнал Восток из своей крови. Именно этот один должен узнать, это важно, и как можно скорее, еще до своего возвращения в Рим он скажет ему об этом. Он посылает курьера в Рим, в дом в шестом квартале, чтобы доставили Иосифа Флавия.
Но вскоре после этого, еще задолго до приезда Иосифа, императора схватил новый приступ лихорадки, хуже прежнего. Домициан обратился к доктору Валенту. Тот посмотрел на него холодным, испытующим взглядом и сказал:
– Я сделаю его величеству снежную ванну. Если обойдется благополучно, больной еще раз придет в сознание. Но мало надежды, что он переживет сегодняшний день.
– Вы думаете, – спросил деловито Домициан, – что император Тит Флавий четырнадцатого сентября станет богом?
– Думаю, что да, – отозвался врач и под вопросительным взглядом принца продолжал: – Я в этом уверен, – и прибавил, – ваше величество.
Когда лихорадка становилась угрожающей, врачи обычно сажали пациента в снеговую ванну. Правильно назначить время пребывания больного в такой ванне было очень трудно, и это служило пробным камнем для искусства врача. Нередко снеговые ванны спасали пациента от верной смерти; но бывало много случаев, когда пациенты в снеговой ванне умирали.
В выложенном камнем погребе дома возле Коссы снег держался долго и не таял. Под наблюдением врача Валента тяжелое пылавшее тело императора глубоко зарыли в снег. Дамы, Луция и Юлия, – Домициан уехал, – стояли, поеживаясь, в погребе, узкое окно и снег распространяли бледный свет, дамы смотрели с отвращением и напряженным вниманием, как императора зарывают.
Тит пришел в себя. Он очень волновался, что Иосифа все еще нет. Кожа посинела; он стискивал зубы, чтобы они не стучали. Ему влили в рот приготовленный Валентом напиток, который должен был подстегнуть его угасающие силы. Он молчал, молчали и обе женщины, было мрачно и холодно. Сначала ушла Юлия, затем ушла и Луция. Когда явился Иосиф, он никого не застал возле императора, только Валента.
Тит отослал врача. Иосиф стоял один перед умирающим, лежавшим в снегу, с окоченевшими членами. Иосиф еще раз низко склонился перед ним и повторил приветствие:
– Я здесь.
Но что-то в нем произнесло: «Нет мудрости, кроме мудрости Когелета: у человека нет преимущества перед скотом. Как те умирают, так умирают и эти, и все суета сует».
Тит казался бесконечно слабым, он дрожал от холода и боли, но, может быть, под влиянием напитка находился в полном сознании. Унаследованная и воспитанная в нем римская выдержка была достаточно сильна, чтобы победить страх твари в минуту умирания. Правда, он не стремился умереть стоя, как отец. Но и он хотел, чтобы в последние минуты не было ничего низменного, и он хотел, чтобы как раз этот человек с Востока был при его смерти и свидетельствовал: римский император Тит умер достойно. С трудом разжал он синеватые губы, но его голос был довольно внятен, в нем даже зазвучали остатки той звонкой повелительности, которую Иосиф часто слышал под стенами Иерусалима; и он заговорил:
– Я вызвал тебя сюда, Иосиф Флавий, чтобы ты это записал. Я тебе поставил бюст, – запомни для потомства то, что я тебе скажу. Я старался быть радостью и любовью рода человеческого, я был всеблагим, величайшим китенком, и в тот день, когда мне не удавалось сделать никакого добра, я говорил: этот день потерян. Но не это должен ты записать. Я умертвил многих людей, и это было правильно, я не раскаиваюсь. Но одно только было нехорошо. Запиши это, мой еврей, ты, великий летописец: император Тит не раскаивался ни в каких деяниях своей жизни, кроме одного. Ты слышишь меня? Запиши это, мой еврей, мой историк.
Так как Тит умолк, то Иосиф спросил:
– В каком деянии, мой император?
Но Тит вместо ответа с обращенным внутрь угасающим взглядом спросил:
– Почему Иерусалим был разрушен?
Тогда Иосиф ощутил ледяной ужас в сердце своем, и он стоял неподвижно и не знал, что ему говорить. Император же продолжал и просил его:
– Ты не хочешь ответить мне, мой еврей? Так долго ждал я ответа, и никто не мог дать мне его – только ты, и если ты не ответишь мне сейчас, то будет слишком поздно.
Тогда Иосиф, собрав все свои силы, овладел собой и ответил, и это была правда:
– Я не знаю.
Но Тит, зарытый в снег, жалобно продолжал:
– Я вижу, ты не хочешь мне сказать. У вас, евреев, хорошая память. Вы, как ваш бог, мстительны, вы не прощаете причиненное вам зло и не забываете ничего до самого конца. – И, как дитя, он продолжал жаловаться и ныть: – Я никогда не был тебе врагом, мой еврей, и не мстил тебе за то, что эта женщина мне причинила. Я оставался твоим другом, даже когда она ушла. Но ты не хочешь ответить мне.
Иосиф был глубоко потрясен бредом умирающего. На пороге самой смерти пытался тот солгать ему и себе, внушить, что женщина, которую он прогнал, покинула его по доброй воле, и он говорил это, чтобы получить ответ на вопрос, почему разрушен город Иерусалим, который он сам разрушил. Ужас перед бренностью человеческого разума охватил Иосифа с такой силой, что он забыл о холоде и темноте жалкого погреба и о страшном одиночестве этого умирающего. Значит, евреи с правого берега Тибра были правы: Ягве послал императору мушку в мозг, она жужжала там, никакой шум арсенала не мог успокоить ее. Тит был только орудием, не больше, чем красная волосатая рука капитана Педана. Теперь он ссылался на то, что был лишь орудием, но тогда, когда он действовал, он не хотел в этом признаться. Он слишком много взял на себя. Он знал, что дело шло о соединении Востока и Запада, но он повернул обратно на полпути, и вместо того, чтобы привлечь к себе Восток, он его разрушил и стал опять тем римлянином, каким был с самого начала, только римлянином, ничем иным, убогим завоевателем, жалким человеком действия, глупцом, знавшим о тщете действия и неспособным от него отступиться. Теперь он получил возмездие. Вот он лежит, и у него лицо его отца, лицо старого крестьянина, – но старик мирился с этим и был этим горд, этот же стыдится. Владыка мира, император, римлянин, неудавшийся гражданин вселенной, и он же – кучка дерьма, человек, который умирает так же, как скот.
И когда человек в снегу еще раз пошевелил синеватыми губами, – Иосиф уже ничего не мог разобрать, но он знал, что Тит повторил свой вопрос и настаивает на его ответе, – его сразило глубочайшее убожество этого вопроса и удручающее сознание ничтожности его самого и всякой твари. Он был почти не в силах выносить вид умирающего, приходилось делать усилие, чтобы не броситься вон, чтобы не бежать от вопрошавшего, и он вздохнул с облегчением, когда вошел врач Валент.
– Сегодня, – сказал Валент, – я, нарушая все приличия, решаюсь помешать вам уже через четверть часа. – Он приблизился к человеку в снегу. – Император Тит Флавий скончался, – констатировал он деловито.
Тем временем Домициан спешно возвращался в Рим верхом, без свиты. Наступала ночь. Скудно светил месяц, и было очень темно. Домициан не щадил своего коня. Теперь, когда минута настала, он не хотел верить, что власть, которой он так долго и страстно жаждал, действительно попадет в его руки, и он рисовал себе все, что могло еще встать между ним и исполнением его желания. А вдруг этот Валент предаст его и расскажет Титу о разговорах с Маруллом? Тит слабый человек и одержим нелепым желанием во что бы то ни стало сохранить престол за династией. Но если даже он забыл Юлию и все предшествующее, он не настолько одержим, чтобы стерпеть подобное предательство и не послать к нему и к Маруллу палача.
Вздор. И без всякого врача видно, что Тит умирает, будь снеговая ванна или не будь ее. Даже если Валент ошибся и Тит проживет еще один день, если он даже проживет целую неделю, против Домициана он бессилен. Домициан сейчас же, как только возвратится в Рим, просто станет во главе гвардии, – все подготовлено. А с помощью гвардии, что бы ни случилось, он продержится, пока Тит не умрет.
Но он уже умер, он уже стал богом, его нет среди живых, Домициан чувствует это в глубине души. Он умер, тот, другой, его брат. Никогда больше не услышит он неприятного звона его повелительного голоса, не услышит его спокойных, насмешливых увещаний. Конец. Это хорошо и для Луции. Она, наверное, обрадуется. Домициан скачет во весь опор в темноте, краснеет. Она должна обрадоваться.
Как странно, что женщина, подобная Луции, не презирает Тита, глупца и труса. О чем он на прощание еще разговаривал с этим евреем? Ему нужна популярность и после смерти, ему нужен историк, он умирает для историка, так же как для него жил. Ему нужны искусственные подпорки, вот в чем дело, ему недостаточно самого себя. А все же было бы интересно знать, о чем он говорил с евреем. Не об Юлии? Жаль, что он сам, Домициан, не заговорил сегодня об этом. А теперь – конец, и он больше никогда не узнает, почувствовал ли его брат, что они – квиты? Откроет ли еврей то, что ему доверил Тит?