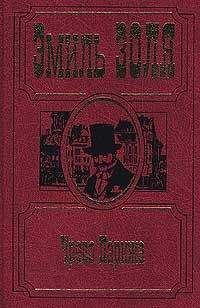Эмиль Золя - Собрание сочинений. Т. 4. Чрево Парижа. Завоевание Плассана
Марта немногословно оправдывалась. Ей необходимо было выйти из дому. В словах Муре, несмотря на его придирчивость, было много правды: дома все шло вкривь и вкось. В этом спокойном уголке, где в предвечерние часы некогда так веяло счастьем, становилось шумно, неуютно от суматохи, производимой детьми, от вечного брюзжания отца и равнодушия усталой матери. Вечером за обедом все ели без аппетита, перебраниваясь между собой, а Роза делала все, что ей приходило в голову. Впрочем, кухарка держала сторону своей хозяйки.
Дело дошло до того, что Муре, встретив как-то свою тещу, стал горько жаловаться на Марту, хотя и чувствовал, какое удовольствие он ей доставляет, рассказывая о своих семейных неприятностях.
— Это меня чрезвычайно удивляет, — с усмешкой ответила Фелисите. — Марта как будто всегда боялась вас; я даже находила, что она слишком безвольна, слишком покорна. Жена не должна трепетать перед своим мужем.
— В том-то и дело! — в отчаянии вскричал Муре. — Она готова была провалиться сквозь землю, только бы избегнуть ссоры… Достаточно было одного моего взгляда, и она все делала, как я хотел… А теперь совсем не то: сколько ни кричи на нее, она все по-своему. Правда, она не возражает, не спорит, но скоро будет и это…
Фелисите лицемерно ответила:
— Если хотите, я поговорю с Мартой. Только она, пожалуй, обидится. Такие вещи должны улаживаться самими же мужем и женой. Я и не беспокоюсь: вы сумеете восстановить в доме мир, которым так гордились.
Муре, уставившись глазами в землю, недоверчиво покачал головой.
— Нет, нет, — возразил он, — я себя знаю; я покричу, но толку от этого никакого. В сущности, я слаб, как ребенок… Напрасно думают, что жена у меня ходила по струнке. Если она часто и делала по-моему, то сама же смеялась над этим, потому что ей было совершенно безразлично, поступать так или иначе. Несмотря на свою кажущуюся мягкость, она очень упряма… Ну что же, попробую на нее подействовать.
Затем, подняв голову, он добавил:
— Лучше было бы мне вам всего этого не говорить; надеюсь, вы никому об этом не расскажете?
Когда Марта на следующий день зашла к матери, та, напустив на себя строгий вид, деланным тоном сказала:
— Напрасно, милая моя, ты так плохо обращаешься со своим мужем… Вчера я видела его, он просто сам не свой. Я знаю, что он часто бывает смешон, но это же не причина, чтобы забросить свою семью и хозяйство.
Марта пристально посмотрела на мать.
— Ах, он жаловался на меня! — резко промолвила она. — Он лучше бы сделал, если бы помолчал; ведь я на него не жалуюсь.
И она заговорила о другом. Однако г-жа Ругон снова перевела разговор на ее мужа, спросив, как поживает аббат Фожа.
— Скажи, пожалуйста, может быть, Муре невзлюбил аббата Фожа и из-за него сердится на тебя?
Марту крайне удивили слова матери.
— Что за ерунда! — пробормотала она. — С чего бы моему мужу не любить аббата Фожа? Я, по крайней мере, никогда не слышала от него ничего такого, что могло бы дать повод к такому предположению. Ведь и вам он не говорил ничего подобного, не правда ли? Нет, вы ошибаетесь. Да он сам пошел бы за ними наверх, если бы мать аббата хоть раз не явилась играть с ним в карты.
В самом деле, Муре ни словом не намекал на аббата. Он иногда грубовато над ним подтрунивал. Ему случалось примешивать имя аббата к шуткам, которыми он донизал жену по поводу ее набожности. Но и только.
Однажды утром, бреясь, он вдруг крикнул Марте:
— Слушай, милая моя, если ты когда-нибудь вздумаешь исповедоваться, возьми себе в духовники аббата. По крайней мере, тогда твои грехи не выйдут за пределы дома.
Аббат Фожа исповедовал по вторникам и пятницам. В эти дни Марта избегала ходить в церковь св. Сатюрнена; по ее словам, ей было неудобно его беспокоить. Но еще больше мешала ей какая-то робкая стыдливость, заставлявшая ее смущаться, когда он выходил к ней в стихаре, принося с собой на его муслине еле уловимый запах исповедальни. Как-то в пятницу она отправилась с г-жой де Кондамен посмотреть, как далеко подвинулись работы по постройке Приюта пресвятой девы. Рабочие заканчивали фасад. Г-жа де Кондамен громко высказала свое недовольство его отделкой, найдя ее очень мизерной, лишенной всякого стиля. По ее мнению, у входа следовало поставить две легкие колонны со стрельчатой аркой, нечто оригинальное и вместе с тем строго благочестивое, такое сооружение, которое сделало бы честь комитету дам-патронесс. Марта сначала не соглашалась с ней, но постепенно, убежденная ее доводами, признала, что фасад на самом деле выйдет очень невзрачным. И так как г-жа де Кондамен очень на этом настаивала, Марта обещала в тот же день переговорить с г-ном Льето. По дороге домой, чтобы сдержать свое обещание, она зашла в церковь. Было четыре часа дня, и архитектор только что ушел. Когда Марта спросила, где аббат Фожа, причетник ответил, что он исповедует в часовне св. Аврелии. Только тогда она вспомнила, что это была пятница, и тихо сказала, что ей некогда ждать. Но проходя на обратном пути мимо часовни св. Аврелии, она подумала, что аббат, быть может, видел ее. В действительности же она внезапно почувствовала какую-то непонятную слабость. Она присела возле часовни, прислонившись к решетке. И так и осталась сидеть.
Небо было покрыто серыми тучами, и церковь мало-помалу охватывали сумерки. В боковых приделах, уже погруженных во мрак, мерцали лампадки, поблескивали позолоченные ножки паникадил, серебряная риза на изваянии мадонны; бледный луч, пронизав середину храма, медленно угасал на полированном дубе скамеек и кресел. Никогда еще Марта не испытывала такого чувства изнеможения, как в этот раз; ноги у нее подкашивались, руки отяжелели так, что она не в состоянии была держать их на весу и сложила на коленях. Ею овладела странная сонливость: она продолжала все видеть и слышать, но в каком-то приятно смягченном виде. Легкий шум, проносившийся под сводами, падение стула, шаги запоздалой богомолки звучали для нее музыкальной мелодией, проникавшей в самую душу, между тем как последние отблески дня и тени, заволакивавшие колонны подобно темным чехлам, казались ей нежнейшими переливами шелковой ткани; и от этого она погружалась в пленительную истому, в которой как бы растворялось и умирало все ее существо. Затем все вокруг нее вдруг погасло. Она испытала миг какого-то несказанного блаженства.
Раздавшийся около нее голос вывел ее из этого экстаза.
— Мне очень жаль, — произнес аббат Фожа. — Я вас видел, но мне нельзя было уйти…
Тут она будто внезапно проснулась. Она посмотрела на него. Он стоял перед ней в стихаре, среди полусвета угасавшего дня. Последняя из его исповедниц ушла, и опустевшая церковь торжественно погружалась во мрак.
— Вы хотели о чем-то со мной поговорить? — спросил он. Она сделала над собой усилие, стараясь вспомнить.
— Да, — прошептала она, — но я уже забыла… Ах да, вспомнила: это по поводу фасада; госпожа де Кондамен находит его чересчур убогим. Лучше бы поставить две колонны вместо этой голой и незаметной двери. Хорошо было бы еще сделать стрельчатую арку с цветными стеклами. Это было бы действительно красиво… Вы меня поняли, не правда ли?
Скрестив руки на своем стихаре, он пристально и властно смотрел на нее, склонив к ней свое строгое лицо; а она продолжала сидеть, не имея сил встать на ноги, и лепетала какие-то слова, как будто кто-то усыпил ее волю и она не в состоянии была стряхнуть с себя этот странный, необычный сон.
— Правда, это будет лишний расход… Можно было бы ограничиться колоннами из мягкого камня с какой-нибудь несложной лепкой… Если хотите, можно об этом поговорить с подрядчиком; он скажет нам, во что это обойдется. Только надо бы сначала уплатить ему по последнему счету. Кажется, две тысячи сто с чем-то франков. У нас есть свободные деньги. Мне сегодня утром сказала это госпожа Палок… Все это можно устроить, господин аббат.
Она опустила голову, словно под тяжестью его взгляда, который чувствовала на себе. Когда она снова подняла голову и встретилась глазами со священником, то сложила руки, словно ребенок, который просит прощения, и зарыдала. Аббат не мешал ей плакать и молча продолжал стоять перед ней. Тогда она упала перед ним на колени и закрыла обеими руками лицо, по которому струились слезы.
— Прошу вас, встаньте, — мягко произнес аббат Фожа: — преклонять колени надо только перед богом.
Он помог ей подняться и сел рядом с ней. Затем они долгое время тихо беседовали между собой. Ночь совсем уже наступила, и лампады своими золотыми лучами пронизывали глубокий мрак церкви. Только их шепот слегка колыхал воздух перед часовней св. Аврелии. После каждого ответа Марты, слабого и сокрушенного, было слышно, как долго струилась плавная речь священника. Когда они наконец оба поднялись, он, казалось, отказывал ей в какой-то милости, о которой она настойчиво просила. Он повел ее к двери, громко говоря: