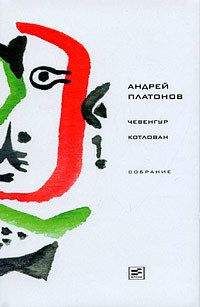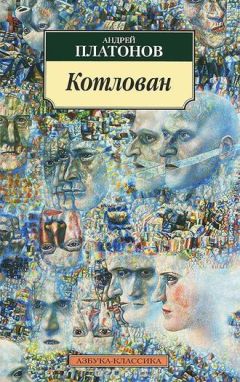Андрей Платонов - Чевенгур
Прошка глядел-глядел и заревновал родителей:
– Чего плачете, Сашка сам вернется. Ты б, отец, лучше валенки мне скатал – тебе Сашка не сын, а сирота. А ты все ножик сидишь тупишь, старый человек.
– Мои милые! – в удивлении остановилась плакать Мавра Фетисовна. – Он как большой балакает – сам гнида, а уж отцу попрек нашел!
Но Прошка был прав: сирота вернулся через две недели. Он так много принес хлебных корок и сухих булок, будто сам ничего не ел. Из того, что он принес, ему тоже ничего не пришлось попробовать, потому что к вечеру Саша лег на печку и не мог согреться – всю его теплоту из него выдули дорожные ветры. В своем забытьи он бормотал о палке в листьях и об отце: чтоб отец берег палку и ждал его на озере в землянке, где растут и падают кресты.
Через три недели, когда приемыш выздоровел, Прохор Абрамович взял кнут и пешком пошел в город – стоять на площадях и наниматься на работу.
Прошка два раза ходил следом за Сашей на кладбище. Он увидел, что сирота сам себе руками роет могилу и не может вырыть глубоко. Тогда он принес сироте отцовскую лопату и сказал, что лопатой рыть легче – все мужики ею роют.
– Тебя все едино прогонят со двора, – сообщил про будущее Прошка. – Отец с осени ничего не сеял, а мамка летом снесется – теперь кабы троих не родила. Верно тебе говорю!
Саша брал лопату, но она была ему не под рост, и он скоро слабел от работы. Прошка стоял, стыл от редких капель едкого позднего дождя и советовал:
– Широко не рой – гроб покупать не на что, так ляжешь. Скорей управляйся, а то мамка родит, а ты лишний рот будешь.
– Я землянку вырою и жить тут буду, – сказал Саша.
– Без наших харчей? – осведомился Прошка.
– Ну да – безо всего. Купырей летом нарву и буду себе есть.
– Тогда живи, – успокоился Прошка. – А к нам побираться не ходи: нечего подавать.
Прохор Абрамович заработал в городе пять пудов муки, приехал на чужой подводе и лег на печку. Когда половину муки съели, Прошка уже думал, что дальше будет.
– Лежень, – сказал он однажды на отца, глядевшего с печки на одинаково кричавших двоешек. – Муку слопаем, а потом с голоду помирать! Нарожал нас – корми теперь!
– Вот остаток от чертей-то! – поругался сверху Прохор Абрамович. – Тебе бы вот отцом-то надо быть, а не мне, мокрый подхлюсток!
Прошка сидел с большой досужестью на лице, думая, как надо сделаться отцом. Он уже знал, что дети выходят из мамкиного живота – у нее весь живот в рубцах и морщинах, – но тогда откуда сироты? Прошка два раза видел по ночам, когда просыпался, что это сам отец наминает мамке живот, а потом живот пухнет и рожаются дети-нахлебники. Про это он тоже напомнил отцу:
– А ты не ложись на мать – лежи рядом и спи. Вон у бабки у Парашки ни одного малого нету – ей дед Федот не мял живота...
Прохор Абрамович слез с печки, обул валенки и поискал чего-то. В хате не было ничего лишнего, тогда Прохор Абрамович взял веник и хлестнул им по лицу Прошки. Прошка не закричал, а сразу лег на лавку вниз лицом. Прохор Абрамович молча начал пороть его, стараясь накопить в себе злобу.
– Не больно, не больно, все равно не больно! – говорил Прошка, не показывая лица.
После порки Прошка поднялся и без передышки сказал:
– Тогда прогони Сашку, чтобы лишнего рта не было.
Прохор Абрамович измучился больше Прошки и понуро сидел у люльки с замолкшими двоешками. Он выдрал Прошку за то, что Прошка был прав: Мавра Фетисовна снова затяжелела, озимых же сеять было нечем. Прохор Абрамович жил на свете, как живут травы на дне лощины: на них сверху весной рушатся талые воды, летом – ливни, в ветер – песок и пыль, зимой их тяжело и душно захлобучивает снег; всегда и ежеминутно они живут под ударами и навалом тяжестей, поэтому травы в лощинах растут горбатыми, готовыми склониться и пропустить через себя беду. Так же наваливались дети на Прохора Абрамовича – труднее, чем самому родиться, и чаще, чем урожай. Если б поле рожало, как жена, а жена не спешила со своим плодородием, Прохор Абрамович давно был бы сытым и довольным хозяином. Но всю жизнь ручьем шли дети и, как ил лощину, погребли душу Прохора Абрамовича под глиняными наносами забот, – от этого Прохор Абрамович почти не ощущал своей жизни и личных интересов; бездетные же свободные люди называли такое забвенное состояние Прохора Абрамовича ленью.
– Прош, а Прош! – позвал Прохор Абрамович.
– Чего тебе? – угрюмо сказал Прошка. – Сам бьешь, а потом Прошей зовешь...
– Прош, сбегай к тетке Марье, погляди, у ней живот вспух аль худой. Чтой-то я давно не встречал ее, либо захворала она?!
Прошка был не обидчив и ради своей семьи деловит.
– Мне бы отцом-то быть, а тебе – Прошкой, – оскорбил отца Прошка. – Чего ей в живот глядеть: озимых не сеял – все одно голода жди.
Одев материну шушунку, Прошка продолжал хозяйственно бурчать:
– Брешут мужики. Летось тетка Марья была порожняя, а дожжи были. Вот она и промахнулась – ей бы рожать нахлебника, а она нет.
– Озимя вымерзли, она чуяла, – негромко сказал отец.
– Все детенки матерей сосуть, хлеба ничуть не едят, – возразил Прошка. – А матерь пускай яровыми кормится... Не пойду я к Марье твоей – будет у нее пузо, ты тогда с печки не слезешь: скажешь – будут травы и яровые хороши. А нам голодать неохота: нарожал нас с мамкой!
Прохор Абрамович молчал. Саша тоже никогда не говорил, когда его не спрашивали. Даже Прохор Абрамович, сам похожий против Прошки на сироту в своем доме, не знал, какой из себя Саша: добрый или нет; ходить побираться он мог от испуга, а что сам думает – не говорит. Саша же думал мало, потому что считал всех взрослых людей и ребят умнее себя и поэтому боялся их. Больше Прохора Абрамовича он пугался Прошку, который каждую крошку считает и не любит никого за своим двором.
* * *Отставя зад, касаясь травы длинными губительными руками, ходил по селу горбатый человек – Петр Федорович Кондаев. У него давно не было болей в пояснице – стало быть, перемены погоды не предвиделось.
В тот год рано созрело солнце на небе: в конце апреля оно уже грело, как в глубоком июле. Мужики затихли, чуя ногами сухую почву, а остальным телом – прочно успокоившееся пространство смертельной жары. Ребятишки наблюдали горизонты, чтобы вовремя заметить выход дождливой тучи. Но на полевых дорогах поднимались вихревые столбы пыли, и сквозь них проезжали телеги из чужих деревень. Кондаев шел среди улицы на ту сторону села, где жила его душевная забота – полудевушка Настя пятнадцати лет. Он любил ее тем местом, которое у него часто болело и было чувствительно, как сердце у прямых людей, – поясницей, коренным сломом своего горба. Кондаев видел в засухе удовольствие и надеялся на лучшее. Руки его были постоянно в желтизне и зелени – он ими губил травы на ходу и растирал их в пальцах. Он радовался голоду, который выгонит всех красивых мужиков далеко на заработки, и многие из них умрут, освободив женщин для Кондаева. Под напряженным солнцем, заставлявшим почву гореть и дымить пылью, Кондаев улыбался. Каждое утро он мылся в пруду и ласкал горб ухватистыми надежными руками, способными на неутомимые объятия будущей жены.
– Ничего, – довольствовался сам собою Кондаев. – Мужики тронутся, бабы останутся. Кто меня покушает, тот век не забудет – я ж сухой бык...
Кондаев гремел породистыми, длинно отросшими руками и воображал, что держит в них Настю. Он даже удивлялся, почему в Насте – в такой слабости ее тела – живет тайная могучая прелесть. От одной думы о ней он вздувался кровью и делался твердым. Чтобы избавиться от притяжения и ощутительности своего воображения, он плыл по пруду и набирал внутрь столько воды, словно в теле его была пещера, а потом выхлестывал воду обратно вместе со слюной любовной сладости.
Возвращаясь домой, Кондаев каждому встречному мужику советовал уходить на заработки.
– Город как крепость, – говорил Кондаев. – Там всего вполне достаточно, а у нас солнце стоит и будет стоять в упор – какой же тебе урожай! Ты опомнись!
– А ты как же, Петр Федорович? – спрашивал мужик про чужую судьбу, чтобы и себе найти ход.
– Я калека, – сообщал Кондаев. – Я одной жалостью смело могу прожить. А вот ты свою бабу уморишь, желвак-человек! Шел бы в отход, а ей хлеб подводами отправлял – прибыльное дело!
– Да, пожалуй, что так и придется, – нехотя вздыхал встречный, а сам надеялся, что как-нибудь дома проживет: капусткой, ягодой, грибками, разной травкой, а там – видно будет.
Кондаев любил старые плетни, ущелья умерших пней, всякую ветхость, хилость и покорную, еле живую теплоту. Тихое зло его похоти в этих одиноких местах находило свою отраду. Он бы хотел всю деревню затомить до безмолвного, усталого состояния, чтобы без препятствия обнимать бессильные живые существа. В тишине утренних теней Кондаев лежал и предвидел полуразрушенные деревни, заросшие улицы и тонкую почерневшую Настю, бредящую от голода, в колкой иссохшей соломе. От одного вида жизни, будь она в травинке или в девушке, Кондаев приходил в тихую ревнивую свирепость; если то была трава, он ее до смерти сминал в своих беспощадных любовных руках, чувствующих любую живую вещь так же жутко и жадно, как девственность женщины; если же то была баба или девушка, Кондаев вперед и навеки ненавидел ее отца, мужа, братьев, будущего жениха и желал им погибнуть или отойти на заработки. Второй голодный год поэтому сильно обнадеживал Кондаева – он считал, что скоро один останется в деревне и тогда залютует над бабами по-своему.