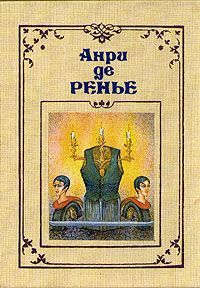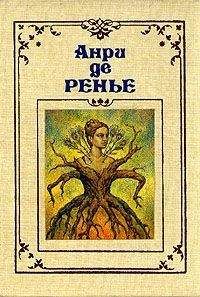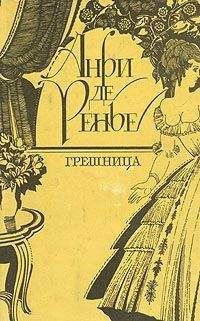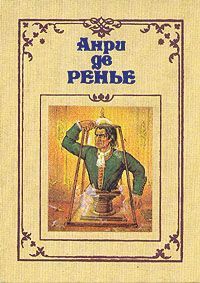Анри де Ренье - Амфисбена
В течение нескольких лет я несколько раз в неделю бывал в Ламбарде, но я рос, и любопытство мое требовало себе другой пищи. Мне начинало становиться скучно с маленьким Буври. В этот период матушка, чтобы занять меня, предпринимала со мною дальние поездки по окрестностям. Она купила небольшую повозку и маленькую лошадку, которою она правила сама, и мы отправлялись таким образом в Круазик, Тюрбаль, Пириак, в Сент-Маргерит или в Сен-Марс. Иногда даже мы доезжали до Сен-Назэра. Вид больших пароходов в порту производил на меня прямо ошеломляющее впечатление. Какие бесконечные остановки заставлял я делать бедную маму на набережной гавани! Отец почти никогда не участвовал в наших поездках. Он часто хворал, и здоровье его слабело. Матушка не делилась со мной своим беспокойством, но сколько раз меня поражал ее озабоченный вид. С какою поспешностью погоняла она лошадку, торопясь поскорей вернуться домой!
Отца обыкновенно мы заставали в гостиной с книгой на коленях или с газетой, которую он не читал. Иногда, когда мы возвращались, он брал руки моей матери и долго их целовал. Иногда же наше возвращение оставляло его как будто совершенно равнодушным. Он оставался погруженным в свои мысли. Однажды вечером, когда мы вернулись довольно поздно, я в последний раз услышал разговор о Ламбарде. Обычно он не любил произносить этого названия, но дядюшка Буври в наше отсутствие пришел с известием, что обвалился большой кусок садовой ограды. Отца, по-видимому, очень расстроило это событие. Он делался все более и более нервным. Малейший пустяк его волновал. Матушка старалась его успокоить. Нужно сейчас же велеть приступать к неотложным работам. Отец печально качал головою. Ночью ему стало худо, и пришлось вызвать доктора.
Через несколько дней отец мой почувствовал себя лучше. Как-то днем он захотел даже выехать вместе с нами. Помнится, мы должны были отправиться в Геранд. Я был приглашен на завтрак к Керамбелям. Меня там оставили. Когда отец с матерью зашли за мною, я заметил, что у матушки красные глаза. Она плакала. В экипаже она была молчаливой. Отец, напротив, казался почти веселым. Когда мы подъезжали к Пулигану, он сказал матушке: "Не нужно, Берта, огорчаться. Я очень доволен, что теперь все дела в порядке. Нотариус Дорза был на высоте". Отец ездил составлять завещание… Через неделю он умер, почти скоропостижно, от болезни сердца, которой он страдал. Я видел, как, очень бледный, он лежал, вытянувшись, на смертном одре. Потом была погребальная церемония. Мне было двенадцать лет.
Так прошли первые годы моей жизни, воспоминание о которых всплыло во мне при прочтении в газетах извещения о пулиганской барке, погибшей в море. Это время довольно редко приходит мне на память. После смерти отца я с матушкой переехал на жизнь в Париж. Только четыре года тому назад случайная автомобильная поездка привела меня на это побережье. Мы совершали любовное путешествие, я и Антуан Гюртэн. Он с Луизой д'Эври из театра "Водевиль", я с Эгьеннеттой Сирвиль. Немного погодя я поссорился с Антуаном. Но оставим эти неприятные воспоминания… Проездом я видел крыши Ламбарда и зеленые дубки. Сердце мое не забилось при виде их, его волновали другие чувства. Наш автомобиль со всей скоростью несся по дороге, залитой солнцем. Квадратные воды соленых болот отражали в своих зеркальных плоскостях ясное небо. Я не остановил машину. К чему? Ламбард уже не прежний. Мать продала его богатому нантскому купцу, и я бы, наверное, уже не нашел там ветхих стен дома и запущенного старого сада.
20 января
Марселин приотворяет дверь и с оттенком почтительности докладывает: "Доктор, сударь". Потом стушевывается перед представительной внешностью доктора Тюйэ.
Я в постели, только что проснулся, так как доктор приходит всегда рано утром. Несмотря на свои шестьдесят пять лет, он проявляет удивительную активность. У него обширная практика, дающая ему двести тысяч франков в год, из которых большая часть уходит на разные медицинские учреждения. Щедрый и сострадательный, он считает, что на его нужды хватит его личных средств, которые довольно значительны. Заработок его принадлежит неимущим и обездоленным. Он полный, красивый мужчина с седою бородою, любящий охотиться и хорошо пожить. Матушка пригласила его на консультацию по совету г-жи де Брюван, тетушки Антуана Гюртэна, когда я был на пятнадцатом году серьезно болен. С той поры он остался нашим семейным доктором и сделался нашим другом. Сев на край кровати, он посмотрел на меня проницательным взглядом знатока людей.
– Чему я обязан вашим визитом, дорогой доктор? – Так я спросил.
Тюйэ дружески окинул меня глазами:
– Прежде всего я пришел, чтобы иметь удовольствие тебя видеть, раз ты больше не показываешься. Ты нечасто посещаешь понедельники г-жи Тюйэ; говорю это не в упрек, но ты не прав. Она находит тебя очаровательным. Затем, я получил письмо от твоей матери. Она заклинает меня осмотреть тебя самым внимательным образом. Она пишет, что с некоторых пор ты ей кажешься грустным и что у тебя, наверное, есть какое-нибудь горе. Ну, дорогой Жюльен, насколько это справедливо?
Я ответил доктору Тюйэ, что чувствую себя достаточно удовлетворительно, что особенных огорчений у меня не было и что матушка беспокоится совершенно напрасно. К тому же я скоро поеду ее навестить и пробуду у нее несколько дней. Но тон мой не разубедил доктора:
– Та-та-та! Мать твоя беспокоится совсем не так уж напрасно, и у тебя вид не блестящий. Уверен, что ты предаешься меланхолии, иначе говоря, сидишь без движения и сам себя гложешь целыми днями. Любовница-то у тебя есть, по крайней мере?
Видя мою гримасу, Тюйэ остановился:
– Ну, не будем говорить об этом. Доктора не так нескромны, и я пришел не для того, чтобы тебе надоедать… Я знаю, что с женщинами приходится попадать в неприятные положения. Вот негодяйки! Но об этом твоей матери я писать не буду. Я ее успокою. Со своей стороны, ты постарайся встряхнуться немного, брось все свои фантазии и для начала приходи послезавтра на вечер к г-же Тюйэ. Тебе не будет скучно. Там будут испанские танцовщицы. Потом ты съездишь к матери. Недели две на чистом воздухе…
Доктор Тюйэ поднялся.
– Ну, я заболтался. У меня еще несколько визитов до того, как идти в Тенон.
Он дошел до двери, потом вдруг обернулся:
– Кстати о визитах: я иду к твоему старому другу Антуану Гюртэну. Мне кажется, вы все еще в ссоре, но это меня не касается… Уверен, что из-за женщин. Молодец этот слишком их любил, и ему не очень повезло. Он далеко не в блестящем положении, толстый Антуан, и прошлая жизнь дает себя знать. Да, да, слишком много вечеринок, бессонных ночей, и похмелья, и спорта… Одним словом, переутомленье, и настоятельная необходимость затормозить как можно скорее… Я не скрываю от него моего суждения. Я думал, он заартачится, но он уступил. Бедняга чувствует, что на хвост ему насыпали соли! Ничего! Мы его выправим. Я успокоил бедную тетушку Брюван…
Говоря это, доктор Тюйэ наблюдал, какое впечатление произведут его слова на меня, потом, видя, что я остаюсь равнодушен, протянул мне широкую свою руку, пожал плечами и отворил дверь, крикнув мне на прощанье:
– Ну, прощай, до послезавтра вечером; непременно, не так ли?
Когда доктор Тюйэ ушел, я долго размышлял. Неожиданное упоминание об Антуане Гюртэне меня взволновало. Почему Тюйэ заговорил о нем со мной? Может быть, это попытка Антуана к сближению? Она не первая. Г-жа Брюван уже пробовала через мою мать… Но Гюртэн очень ошибается, думая разжалобить меня известиями о своей неврастении. Наоборот, я испытываю при этом чувство злорадного удовлетворения. Да, я испытываю своего рода удовольствие при мысли, что ему придется отказаться от образа жизни, к которому он привык. Это не очень хорошо с моей стороны, но это так!
22 января
Помпео Нероли живет на улице Принцессы в старом доме, не лишенном живописности. Нижний этаж этого старинного помещения занимает торговец красками, и во дворе всегда стоят чаны, наполненные различными красильными жидкостями, рядом со сломанными бочками, из которых высыпаются разноцветные комки земли. Сенные столбы служат для торговца картоном выставкой и разукрашены образчиками. У дома вид совершенно жилища арлекина.
Две небольшие комнатки, где у Помпео Нероли мастерская и магазин, находятся в четвертом этаже. Они захламлены непереплетенными книгами. Повсюду валяются кожа и бумага для переплетов. Нероли, в серой блузе, стоя перед большим рабочим столом, по-видимому, чувствует себя очень хорошо среди этого беспорядка.
Он был в таком же костюме и стоял в той же позе, когда я познакомился с ним в Сиене. Только в Сиене лавка его помещалась в первом этаже, и окна выходили на узкую улицу, которая лестницей спускается позади собора. На витрине выставлено было несколько тетрадей, переплетенных в пергамент, вроде моей тетради, в которой я пишу. Эти переплеты привлекли мое внимание, и, так как начинался дождь, я зашел в лавку. Покуда я с грехом пополам объяснял, чего мне нужно, дождь усилился. Я как теперь слышу его шум. Ужасный ливень разразился над Сиеной. Улица моментально превратилась в бурный поток. Напротив был нахмуренный, пузатый дворец, с которого так и текло. Ступени перед ним напоминали водопады. Переплетчик не обращал никакого внимания на этот потоп, который, по-видимому, его не удивлял, и продолжал услужливо перебирать свои сорта пергамента. Сиена – город дубильщиков: один из ее кварталов, где находится дом святой Екатерины, до сих пор наполнен той же вонью кожи, выделанной и невыделанной, в которой святая дочь кожевника могла себе вообразить некогда запах адской падали.