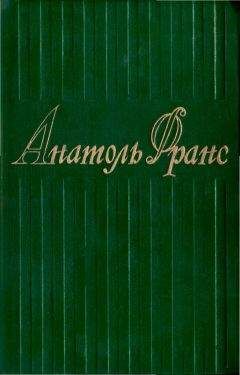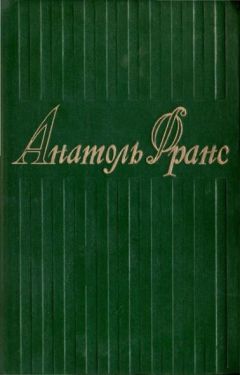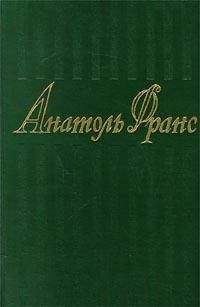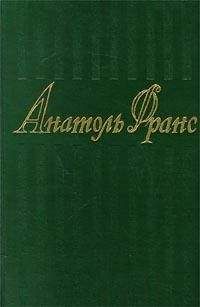Анатоль Франс - Рубашка
– Я более вашего достоин сожаления, – возразил г-н де ла Галисоньер. – Каждый раз, как вы произносите это коварное и восхитительное слово «небытие», сладость его, как подушка – больного, ласкает мою душу и нежит меня обещанием покоя и сна.
Но Лярив-дю-Мон с ним не согласился.
– Мои страдания мучительнее ваших, так как и рядовой человек примиряется с мыслью о вечном аде, а для того, чтобы быть неверующим, требуется недюжинная душевная сила. Религиозное воспитание и мистические настроения внушили вам страх перед человеческой жизнью и ненависть к ней. Вы не только христианин и католик, вы – янсенист, носящий в самом себе ту бездну, по краю которой ходил Паскаль[21]. А я люблю жизнь, здешнюю, земную жизнь, такой, как она есть, жизнь со всей ее поганью. Я люблю ее, грубую, гнусную и топорную; я люблю ее, мерзкую, нечистоплотную и гнилую; я люблю ее, тупую, глупую и жестокую; я люблю ее во всей ее непристойности, во всем позоре, во всем безобразии, с ее скверной, с ее уродствами и зловонием, с ее развратом и ее заразой. Когда я чувствую, что она от меня ускользает, что она бежит от меня, я дрожу, как последний трус, я схожу с ума от отчаяния.
По воскресеньям и праздничным дням я сную по людным кварталам, вмешиваюсь в катящуюся по улицам толпу, ныряю в сборища мужчин, женщин и детей, теснящихся вокруг бродячих певцов или перед ярмарочными балаганами; я трусь о грязные юбки, о засаленные куртки, я упиваюсь острыми запахами пота, волос и дыханья. Мне представляется, что в этой жизненной сутолоке я дальше от смерти. Я слышу голос, говорящий мне: «Я одна тебя излечу от страха передо мной; ты устал от моих угроз – я одна тебя успокою». Но я не хочу! Не хочу!
– Увы, – вздохнул председатель суда, – если мы в этой жизни не вылечимся от болезней, терзающих наши души, то смерть не принесет нам покоя.
– А больше всего меня бесит, – продолжал ученый, – что, когда мы с вами оба умрем, у меня даже не будет удовлетворения вам сказать: «Вот видите, ла Галисоньер, я был прав – ничего нет». Я не смогу похвастаться перед вами своей правотой, а вы так никогда и не узнаете о своем заблуждении. Какою ценой достается нам мысль! Вы несчастны, друг мой, потому что ваша мысль шире и могучее мысли животных и большинства людей. А я несчастнее вас, потому что моя мысль вдохновеннее вашей.
Катрфей, уловивший обрывки этого разговора, не особенно ему удивился.
– Это все горести духа, – сказал он, – они, может быть, и мучительны, но мало распространены. Меня больше тревожат страдания обыденного характера – телесные недуги и уродства, сердечные невзгоды и безденежье: именно они затрудняют наши поиски.
– Кроме того, – заметил Сен-Сильвен, – эти два субъекта уж чересчур настойчиво добиваются от своих учений, чтобы они ввергли их в пучину несчастья. Если бы ла Галисоньер обратился к какому-нибудь доброму отцу иезуиту, тот очень скоро успокоил бы его, а Лярив-дю-Мону следовало бы знать, что можно быть безбожником, сохраняя безмятежность духа, как Лукреций, или наслаждаясь этим, как Андре Шенье[22]. Пусть почаще вспоминает стих Гомера: «Умер Патрокл, несравненно тебя превосходнейший смертный», и пусть согласится примкнуть в один прекрасный день к своим учителям, философам древности, гуманистам Возрождения, современным ученым и многим другим «превосходнейшим смертным». «Умирают Парис и Елена», – говорит Франсуа Вийон[23]. «Все мы смертны», – говорит Цицерон. «Мы все умираем», – говорит женщина, чью мудрость восхваляет Священное писание во второй Книге Царств.
Глава IX
Они отправились обедать в королевский парк, элегантное место прогулок, являющееся в столице короля Христофора тем же самым, чем является в Париже Булонский лес, в Брюсселе – Камбра, в Лондоне – Гайд-Парк, в Берлине – Тиргартен, в Вене – Пратер, в Мадриде – Прадо, во Флоренции – Кашины, в Риме – Пинчо. Устроившись на свежем воздухе, среди блестящей толпы обедающих, они принялись блуждать взглядом по большим дамским шляпам, усаженным цветами и перьями, по этим передвижным шатрам наслаждения, колыхающимся приютам любви, голубятням, уготовленным для слета всех желаний.
– Я думаю, что предмет наших поисков находится здесь, – сказал Катрфей. – Мне, как и всякому человеку, случалось быть любимым. Сен-Сильвен, это – счастье! И я еще сейчас себя спрашиваю, не единственное ли это счастье, доступное людям? И хотя я таскаю в себе мочевой пузырь, в котором больше камней, чем в тележке, выезжающей из каменоломни, – бывают все-таки дни, когда я влюблен, словно мне двадцать лет.
– А я женоненавистник, – ответил Сен-Сильвен. – Я не могу простить женщинам, что они принадлежат к тому же полу, что и моя жена. Я знаю, что все они не так глупы, не так злы и не так уродливы, как она, но достаточно и того, что у них есть нечто общее с ней.
– Бросьте, Сен-Сильвен. Говорю вам: то, что мы с вами ищем, находится здесь, и нам стоит только протянуть руку, чтобы его получить.
И, указывая на чрезвычайно красивого мужчину, одиноко сидевшего за столиком, Катрфей добавил:
– Вы знаете Жака де Нависеля? Он нравится женщинам, он нравится каждой из них. Это и есть счастье – или я в нем ничего не смыслю!
Сен-Сильвен согласился проверить. Они предложили Жаку де Нависелю объединиться за одним столом и, обедая, запросто разговорились с ним. Путем долгих обходов и внезапных вылазок, атакуя его и с фронта и с флангов, прибегая то к намекам, то прямо в открытую, они раз двадцать осведомились, счастлив ли он, но так ничего и не добились от собеседника, изящная речь и обворожительное лицо которого не выражали ни радости, ни печали. Жак де Нависель охотно с ними беседовал и казался вполне откровенным и естественным; он даже пускался в признания, но последние только плотнее окутывали его тайну и усиливали ее непроницаемость. Конечно, он был любим. Но был ли он счастлив или несчастен от этой любви? После обеда, когда подали фрукты, королевские инквизиторы уже утратили надежду что-нибудь об этом узнать. Вконец обескураженные, они еще немного поговорили уже совсем впустую и кстати поговорили о самих себе: Сен-Сильвен – о своей жене, а Катрфей – о своем фундаментальном камне, предмете, сближавшем его с Монтенем[24]. За ликерами было рассказано немало разных анекдотов: про г-жу Берий, ускользнувшую из отдельного кабинета, перерядившись пирожником, с плетеной корзиной на голове; про генерала Дебоннера и баронессу Бильдерман; про министра Визира и г-жу Серес, подобно Антонию и Клеопатре растворивших в поцелуях целое царство,[25] – и много других старых и новых историй. Жак де Нависель рассказал восточную сказку.
– Некий молодой багдадский купец, – сказал он, – лежа однажды утром в постели, вдруг почувствовал себя страстно влюбленным и громкими возгласами высказал пожелание быть любимым всеми женщинами. Услышавший это джинн явился перед ним и сказал: «Твое желание отныне исполнено. Начиная с сегодняшнего дня ты будешь любим всеми женщинами. Обрадованный молодой купец тотчас же соскочил с постели и, в чаянье разнообразных и неисчерпаемых удовольствий, вышел на улицу. Не успел он пройти несколько шагов, как отвратительная старуха, цедившая вино у себя в погребе, прониклась к нему пылкой любовью и стала посылать ему через люк воздушные поцелуи. Он гадливо от нее отвернулся, но старуха за ногу втащила его в погреб и продержала там взаперти в продолжение двадцати лет.
Жак де Нависель заканчивал эту сказку, когда подошедший метрдотель доложил ему, что его ожидают. Он встал и с поникшей головой и сумрачным взглядом направился к чугунным воротам парка, где его, в двухместной карете, поджидала особа довольно терпкого вида.
– Он нам рассказал собственную историю, – сказал Сен-Сильвен. – Молодой багдадский купец – это он сам.
Катрфей ударил себя по лбу.
– Мне же ведь говорили, что его стережет страшный дракон! Совсем про это забыл!
Они поздно возвратились во дворец, не имея при себе иной рубашки, кроме своих собственных, и застали короля Христофора и г-жу де ла Пуль льющими горючие слезы под звуки сонаты Моцарта.
От постоянного общения с королем г-жа де ла Пуль впала в меланхолию и предалась мрачным мыслям и нелепейшим страхам. Она воображала, что ее кто-то преследует, и считала себя жертвой ужаснейших козней: она жила в вечной боязни быть отравленной и заставляла своих горничных пробовать каждое кушанье, подаваемое к столу. Ужас перед смертью и жажда самоубийства преследовали ее. Душевное состояние этой дамы, с которой король делил плачевные дни, сильно ухудшало его собственное состояние.
– Художники – злосчастные виновники чудовищной напраслины, – говорил Христофор V. – Они наделяют плачущих женщин трогательной красотой и являют нашему взору украшенных слезами Андромах, Артемид, Магдалин и Элоиз[26]. У меня есть портрет Адриенны Лекуврер в роли Корнелии[27], орошающей слезами прах Помпея: она обворожительна. Но едва примется плакать госпожа де ла Пуль, как лицо ее перекашивается, нос краснеет и она становится такой безобразной, что можно испугаться.