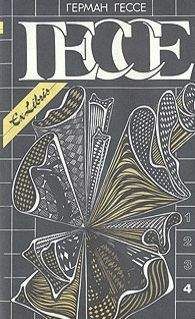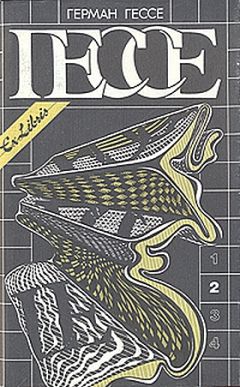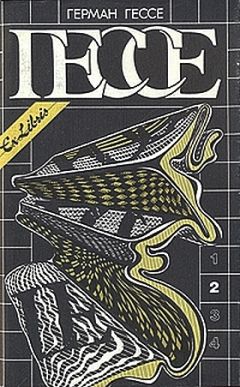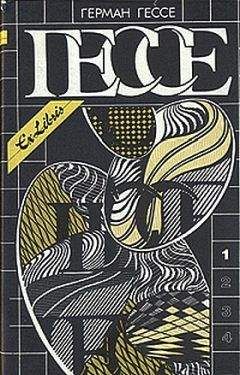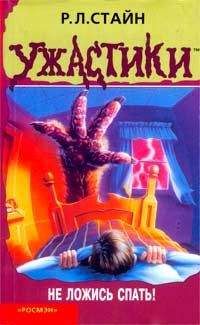Герман Гессе - Собрание сочинений в четырех томах. Том 2
И еще:
— Сон, который я тебе рассказал, возможно, имеет тот же самый смысл. Ни Генриетту, ни Лизабет я с умыслом не обижал. Но по той причине, что я их обеих когда-то любил и хотел их удержать, они и соединились для меня во сне в один образ, — он похож на обеих сразу, но он и ни Генриетта, и ни Лизабет. Этот образ принадлежит мне, но с живым человеком у него ничего общего нет. И тут кстати будет сказать еще о моих родителях. Они были убеждены, что я их дитя, их частичка, и посему должен быть таким же, как они. Но я, хоть и любил их, был другим, особым и непонятным для них человеком. То, что было во мне главным, что как раз и было моею душою, они считали второстепенным и приписывали молодости или прихоти. При этом они меня тоже очень любили и всё бы для меня сделали. Но отец может передать в наследство сыну нос, или глаза, или способности, но не душу. Душа каждого человека рождается заново.
Мне нечего было на это возразить, ибо тогда еще я в такие рассуждения, во всяком случае по собственному моему почину, не пускался. Такое глубокомыслие, хоть и было мне по душе, но по-настоящему не задевало, а посему я полагал, что и для Кнульпа это не борение, а всего лишь игра. Кроме того, было так покойно и прекрасно лежать рядом с другом на сухой траве в ожидании ночи и глядеть на первые звезды.
Я сказал:
— Кнульп, да ты настоящий философ. Тебе бы профессором стать.
Он засмеялся и покачал головой.
— Скорее я вступлю когда-нибудь в Армию спасения, — задумчиво вымолвил он.
Это было уж слишком.
— Слушай, пожалуйста, не прикидывайся! — сказал я ему. — Не хочешь ли ты заодно сделаться святым?
— То-то и дело, что хочу. Каждый человек, который серьезно относится ко всему, что думает и делает, — святой. Вот как ты считаешь правильным, так и следует поступать. И если однажды я сочту правильным вступить в Армию спасения, то я, верно, так и сделаю.
— Далась тебе эта Армия спасения!
— Именно, далась. Сейчас объясню почему. Мне пришлось в жизни говорить с многими людьми и слышать много речей. Я слышал, как говорят священники и учителя, бургомистры, социал-демократы и либералы; но не было среди них ни одного, кто бы серьезно — до конца серьезно — относился к тому, что говорит, — так, чтобы я поверил: в случае нужды этот на костер пойдет за свои убеждения. А в Армии спасения, между прочим, со всей ее нелепой музыкой и шумихой, я встречал несколько раз людей, для которых все было серьезно.
— Откуда ты знаешь?
— Да уж это видно. Один, например, — помню, он держал речь в какой-то деревне, в воскресенье, под открытым небом — вокруг жарища, пыль, так что вскоре он совершенно охрип. Да особенно крепким он и не выглядел. Когда он не в состоянии был произнести ни слова, он просил своих трех товарищей немного попеть, а сам выпивал глоток воды. Полдеревни собралось вокруг, дети и взрослые, все считали его за дурака и всячески критиковали. Позади других стоял молодой дюжий батрак, в руках он держал кнут и время от времени оглушительно им щелкал, специально, чтобы позлить оратора и посмешить публику. Но бедный малый не давал волю гневу, хотя вовсе не был глуп, он пытался своим голосишком пробиться к зевакам и улыбался там, где другой бы выл или сыпал проклятиями. Знаешь, так стараются не за деньги и не ради удовольствия, но когда несут в себе великую уверенность и ясность.
— Изволь. Но ведь одно и то же не годится для всех. А человек чувствительный, тонкий, вроде тебя, вообще не создан, чтобы выступать перед зеваками.
— А может, как раз и создан. Ежели он во что-то верит, что-то имеет за душой, что выше и прекраснее чувствительности и тонкости. Ты прав, одно и то же не годится для всех, но истина — она ведь для всех одна.
— Ах, истина! Откуда тебе известно, что эти, с их аллилуйей, владеют истиной?
— Это мне неизвестно. Я утверждаю только: если я однажды сочту, что истина у них, я за ними последую.
— Если… Но ведь ты каждый день открываешь очередную мудрость, а назавтра ей не следуешь.
Он с обидой посмотрел на меня.
— Знаешь, то, что ты сказал сейчас, очень зло.
Я хотел извиниться, но он воспротивился и замолк. Вскоре он шепотом пожелал мне доброй ночи, улегся тихонько, но, по правде говоря, я не верил, что он спит. Я тоже долго не мог заснуть, больше часу не смыкал глаз и, подперев подбородок ладонями, неотрывно глядел в ночную даль.
С утра я сразу приметил, что у Кнульпа сегодня выдался счастливый денек. Я не умолчал об этом, и он, по-детски просияв и окинув меня радостным взглядом, сказал:
— Ты угадал. А знаешь, по какой причине у человека бывает счастливый день?
— Нет. А по какой?
— Да просто потому, что он ночью отлично спал и видел хороший сон. Но этот сон потом никогда не помнишь. Так и сегодня: мне снилась какая-то роскошь и веселье, но что именно — все позабыл, знаю только, что это было прекрасно.
Еще прежде, чем мы добрались до ближайшей деревни и ощутили во рту вкус парного молока, он спел натощак, легко и свободно, грудным теплым голосом три-четыре самых новеньких своих песни. Если бы эти песенки были записаны и напечатаны, они бы, возможно, ничего особенного собой не представляли. Но хотя Кнульп не был большим поэтом, поэтом он все же был, и его песенки в его собственном исполнении были похожи на самые прекрасные песни в мире, как их хорошенькие сестрицы. Отдельные отрывки, которые сохранились в моей памяти, и в самом деле хороши и все еще мне дороги. Ничего из этого не было записано, стихи его рождались, жили и умирали невинно и безответственно, как порывы ветра, но они скрасили не один час не только ему и мне, но и многим другим людям, детям и взрослым.
Словно девица-краса
Появилась из ворот
Из-за елей в небеса
Солнце красное плывет,
пел он в тот день о солнце, которое почти всегда присутствовало в его песнях и которому он возносил хвалы. И странное дело, насколько в беседе он обожал всяческую философию, настолько наивны и непосредственны были его стишки, которые выпрыгивали на свет, подобно чистеньким ребятишкам, в светлых летних одеждах. Часто это бывала забавная бессмыслица, она служила лишь для того, чтобы дать выплеснуться переполнявшему его задору.
Тот день был весь для меня окрашен его ликующим настроением. Мы шутливо приветствовали и задирали встречных и поперечных, так что вслед нам неслись то смех, то брань, и весь день проходил как праздник. Мы наперебой рассказывали друг другу о шутках и проделках школьных лет, давали насмешливые прозвища проходящим мимо крестьянам, а также их лошадям и волам, досыта полакомились у пустынной ограды ворованным крыжовником и почти каждый час устраивали привалы, щадя свои силы и подметки.
Мне представилось, что со времени моего сравнительно недавнего знакомства с Кнульпом я никогда еще не видал его таким веселым и обаятельным, и я всячески радовался предстоящему странствию, считая, что с сегодняшнего дня, собственно, и начнется наша совместная жизнь и наше веселье.
Полдень сделался на редкость знойным, мы больше валялись на траве, чем шагали вперед, а к вечеру стало парить и собралась гроза, так что решено было поискать ночлега под крышей.
Кнульп постепенно затих, по-видимому, устал, но я этого почти не заметил, так как он с прежним воодушевлением вторил моему смеху и подхватывал песню, когда я ее запевал, а сам я веселился пуще прежнего, и в груди у меня, подавляя все другие чувства, разгорался какой-то праздничный фейерверк. Очевидно, у Кнульпа было все наоборот, его радостные огни уже угасали. У меня же всегда так: в праздничные дни я особенно расхожусь к вечеру, просто удержу не знаю и ради какого-нибудь нового удовольствия готов пуститься в путь на ночь глядя, когда все другие уже угомонились и спят.
Подобная лихорадка охватила меня и в тот раз, и, когда, спустившись в долину, мы подошли к большой нарядной деревне, я обрадовался, предвкушая веселый вечер. Сначала мы высмотрели амбар, стоявший особняком и вполне подходящий для ночлега, затем вошли в деревню и расположились за столиком в трактирном саду, так как я пригласил своего друга на ужин и готов был расщедриться на омлет и пару бутылок пива — ведь это был поистине счастливый день.
Кнульп охотно принял мое приглашение, но, когда мы уселись под красивым платаном, несколько смущенно заметил:
— Слушай, мы ведь не станем затевать кутеж, не так ли? Одну бутылку я охотно выпью, это полезно, но больше я не переношу.
Я согласился и подумал про себя: «Зачем загадывать наперед? Выпьем, сколько захочется». Мы ели горячий омлет с пахучим ржаным хлебом, и вскоре я заказал себе еще пива, хотя в бутылке Кнульпа осталось больше половины. У меня было преотличное настроение от того, что я раскошелился и по-господски восседаю за этим обильным столом, я рассчитывал еще долго предаваться веселью в тот вечер.