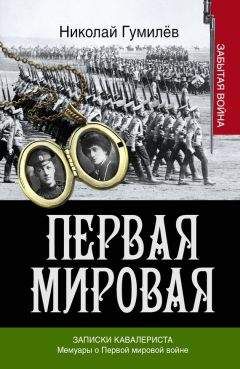Лев Рубинштейн - Альпинист в седле с пистолетом в кармане
В какой-то из дней стало непривычно пусто и жутко, пропало все гражданское, что двигалось вместе с нами. Куда оно ушло? Как по жесту волшебной палочки. А мы двигались к Ленинграду, намного увеличивая свою часть за счет бегающих без узды.
НАС ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ТРОЕ
Все же немцы нас вскоре догнали. Они ехали на машинах по дорогам, а мы пешком по обочинам. Бригада наша разрослась за счет работы заградотрядов. Возник какой-то порядок и первый отпор наступавшему врагу.
Нас придали или нам придали танковую часть, и был первый настоящий бой.
В районе пос. Шапки мы контратаковали наступавших противников. По моей полной неподготовленности и непониманию военного дела все по-прежнему казалось неразберихой и хаосом действий. То мы бежали в атаку, не видя противника и не зная, где он. Бежали туда, откуда он стреляет. То не знали, где наши; но в конце концов все прояснилось. Из небольшой рощицы, справа, загудели и вышли несколько наших танков БТ. Как мы их полюбили! К этому времени священная злость уже была не только у кадровых военных, но и у всех приписников и интеллигентов, составляющих значительную часть войск и понюхавших жестокости и наглости противника и, главное, поевших своей слабости и беззащитности.
Наши танки! Какой восторг! Мы готовы их целовать и гладить. Они пошли в бой. Вот теперь мы покажем этим гадам. Пехота кинулась за танками в атаку… Пехота — это мы, и удержать нас нельзя. Костя и Ваня влезли на броню, мы бежали рядом, держась за танк.
Этого боя я описывать не буду. После него нас осталось только семь. В нем погибли Костя Соболев и Ваня Федоров, их буквально срезало пулеметным огнем на броне. За ними немного погодя погиб Сеня Аскенази и Игорь Юрьев (позже оказалось, что Игорь был тяжело ранен в грудь и в бессознательном состоянии попал в плен).
Танки пошли без разведки, используя богатый опыт кавалеристов, руководивших в начале войны танковыми подразделениями. Лихой наскок с острой саблей не удался. У танков не было сабель и гривы. Танки все, кроме одного (заглох при выезде), сгорели, и мы едва управились отползти в свои плохо сделанные окопы. Нас, альпинистов, осталось семь. Нас осталось семь. Нас осталось только семь.
Нас, альпинистов, семь! (Зайцев не альпинист, и он ушел от нас не знаю куда.)
Казалось, альпинисты умеют терять друзей. Но это может показаться только постороннему.
Альпинисты не плачут. Альпинисты спокойно вытаскивают из трещины или из-под скал ту смесь мяса и костей, которая была другом, упаковывают в спальный мешок, обвязывают веревками и волокут по леднику, «охраняя» себя и «его» от падения в следующую трещину, бережно спускают по скалам и потом тихо и молча хоронят на своем альпинистском кладбище.
Однако научиться этому нельзя. На войне убивало многих, и рядом с тобой, лучше сказать, не много оставалось целых. У военных была такая спасительная мысль: его убило, но я-то цел. Эта мысль — спасительная загадка психологии. Она не формулировалась так прямо, но радость остаться живым ощущалась на примере несчастья другого. Об этом я слышал много раз и от различных военных людей. Забегая вперед скажу, что я из альпинистов, воевавших на переднем крае, остался в бригаде последним. Мне везло. Только два раза я был ранен и к концу думал о том, что продолжись война еще немного, — и статистика добила бы и меня. Скажу еще, что гибель Вани, Сени и Игоря не поддавалась этой спасительной мысли. Скорее, была мысль о том, что если погибли такие замечательные люди, любимые друзья, выдающиеся спортсмены, то и мне туда скорая дорога. Очевидно, выхода нет. Я еще тогда не научился пускать в себя спасительные мысли, что умеют настоящие военные. В этом смысле я оставался штатским интеллигентом и очень страдал. Я не стремился выяснить истину. Я страдал … И подавлялся окружающим до состояния полусонного доходяги. Это не проходило, не прошло до сих пор и не пройдет до конца. Смерть — это не просто.
Продолжаются обстрелы, контратаки, опять пришли наши несчастные, мизерные танки.
Сереге Калинкину осколок перебивает голень. Серегу увозят в медсанбат. Бой продолжается. Серьезное ранение в грудь получает Абрам Бердичевский. Его сразу везут в тыл. Состояние тяжелое, и двух месяцев еще не воюем, а семерых уже нет, остаемся впятером — Толя, Федя, Карп, я и Буданов.
Сентябрь наступил. Отступление продолжалось.
Опять беспорядочные наши контратаки, опять неразбериха. Осколок мины вырывает бок у Анатолия. Его увозят в тыл. Буданов переходит в интенданты на передовой, из двенадцати остаемся втроем — Федя, Карп и я.
Пошла зима. Воевать везде плохо, но на Волховском вдвойне, втройне, впятерне и более плохо. Немцы заняли высотки, а нам сидеть в болоте. Нас часто спрашивали — почему вы не заняли высотки? Чтобы занять высотки, пришлось бы отступить от линии фронта, а нам этого «никто» не позволит. Отдавать нашу священную землю врагу нельзя.
Немцы, подходя к нашим позициям, отходили до удобных высоток, а начальство нас заставляло подойти к ним, докладывая, что отвоевали куски земли.
Был такой приказ № 227 — ни шагу назад назывался — его издали в 1942 г. Были и другие страшные приказы о штрафбатах, о смертной казни через повешение, объявлявшие всех попавших в плен предателями (не сдавшихся, а попавших), но не было приказа о том, чтобы не посылать зря на смерть солдат и офицеров. И нас посылали брать какую-то вшивую высотку, теряя целые взводы и роты. Безответственность поразительная. Если командир оставил ломаную пушку — расстрел, а если погубил роту — ничего.
На Волхове в болотах и рядом с ними земля — торф. Окопа сделать нельзя, вода заливает их весной и осенью. Мы делали валики — брустверы из торфа — и за ними сидели. Плохо было на этих участках Волховского фронта. Даже вне болот окопы были мелкими и землянки малыми. Зимой и сыро, и холодно в них, даже в большие морозы на полу была вода. И в валенках нельзя, и без валенок совсем нельзя. Суровая зима началась еще в октябре.
Стали мы в оборону. Под деревней Вороново. Настали трудные дни и ночи. Начальство беспрерывно требовало «языка» и активности в обороне. Не давайте им сидеть в теплых хатах на горке. Ведите разведку боем. И мы вели, и нас убивало и ранило. И приходило пополнение, и его ждала та участь.
Штатский интеллигент вытекал из меня, как пар из бутылки. Оболочка же, то есть сама бутылка, не считая горлышка, оставалась пока почти целой и заполнялась тем, что называется «наш советский вояка». Начало войны было очень трудным, но штатский дух в бутылке все еще булькал и постоянно выдавал какие-то проекты, изобретения или технические идеи. Шел ли я по тропке, сидел ли в землянке, стоял ли в окопе — психика, запущенная на изобретательское и научное дело, изредка выбрасывала результат, как монитор в железнодорожной кассе — «мест нет», или «верхний боковой в плацкартном». Идеи были лихими (например, зеленый крокодил из зоопарка, обложенный и наполненный взрывчаткой и пущенный под немецкий танк. Или легкие крылья. Я лечу на них в Берлин, к бункеру Гитлера, подвязываю его альпинистскими узлами к себе и прилетаю с ним в Москву к маршалу Жукову. Меня делают генералом авиации). Были идеи попроще. Некоторые из них я осуществил сам, другие (кроме одной) посылал в какие-то инстанции, сам не знаю куда.
ГЕНЕРАЛ ГРИБОВ
Простые люди не становятся генералами. И быть с генералом не просто. Не просто, но с хорошим генералом прелестно. Часто сидела наша команда в каком-нибудь лесочке, на кочке болотной или камнях. Грибов рядом отдавал команды, советы, слушал доклады, разговаривал…
Я не мог никогда угадать того, что он скажет дальше. Он был неугадываем и даже непознаваем.
Как неинтересны люди, уже препарированные, рассеченные и прозрачные (как арифметические задачи для третьего класса). И, наоборот, притягательны загадочные.
Наш генерал был загадкой, как сопка, укрытая корабельными соснами среди бескрайнего торфяного болота. Такие были. И наш Грибов был! На фоне остальных командиров. Два сакраментальных вопроса — откуда такие берутся и как он залетел в нашу кашу?
В 23.00 31 декабря 1941 года в нашу землянку вошел адъютант Грибова лейтенант Оболенцев (какая фамилия!) и сказал: «Вас троих (показав рукою) Иван Владимирович требует… то есть просит зайти к нему через полчаса, то есть в 23.30». Он посмотрел на часы.
«У нас все часы испорчены водой», — сказал Великанов.
— Хорошо, я за вами зайду…
— Срочное задание? — спросил я.
— Придете, узнаете.
Адъютанты с солдатами так разговаривают. Лейтенант, рост сто девяносто, согнулся вполовину, выходя в дверь, занавешенную плащпалаткой. Великанов стал закручивать портянки, сушившиеся у железной бочки, работавшей у нас печкой. Снял со стены автомат, стал его протирать. В каску заправил ушанку, утрамбовывая ее своей большой головой. Шапка была по голове, а каска мала. Они все одинаковыми делались.
![Лоренс Сандерс - Слепой с пистолетом [Кассеты Андерсона. Слепой с пистолетом. Друзья Эдди Койла]](/uploads/posts/books/243518/243518.jpg)