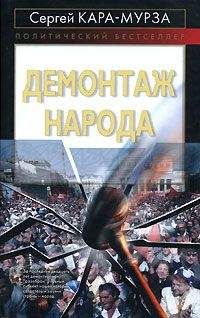Г. Осипов - Общество знания: Переход к инновационному развитию России
Почему же это надо принимать за довод в пользу беспредельной гласности? Разве всегда следует делать именно то, что людям мешает? Культура и была введением ограничений на гласность — уже требованием носить фиговый листок, а потом набедренную повязку. Но помимо здравого смысла надо прислушаться и к философии. Начиная с Руссо и кончая Фуко, философы специально развивали тему полной гласности (transparency) как одного из оснований тоталитаризма (см.: Осипов Г. В., Кара-Мурза С. Г. Общество знания: История модернизации на Западе и в СССР,13 разд. I, гл. 10).
А вот высказывание самого М. С. Горбачева: «Вновь и вновь подчеркиваю: мы за гласность без всяких оговорок, без ограничений… и на вопрос, есть ли у гласности, критики, демократии пределы, мы отвечаем твердо: если гласность, критика, демократия в интересах социализма, в интересах народа — они беспредельны!» [57].14
Придание расплывчатому понятию гласность статуса абсолютного приоритета в нашей жизни — продукт гипостазирования. Из истории с гласностью мы обязаны извлечь урок, ведь эта история не кончилась с крушением советской государственности. Она стала жить собственной жизнью, став фактором разрушения и даже криминализации общества и государства. Постулаты гласности узаконили скандал и шантаж в качестве признанного инструмента власти. Чем была история устранения генерального прокурора РФ Скуратова с помощью скандальной (точнее, преступной) видеозаписи? Сильным ударом и по праву, и по нравственности. Ведь М. Швыдкой, пустивший эту видеозапись в эфир, стал министром культуры.
Вспомним Паноптикум Бентама — идеал «прозрачного общества» как высшего достижения полицейского государства (О.З.: История… разд. I, гл. 10) Можно ли было ожидать, что эта утопия найдет отклик в душе русских интеллигентов конца XX века! Ведь для этого надо было отключить и рассудок, и память. Фуко поясняет: «Власть, главной движущей силой которой станет общественное мнение, не сможет терпеть ни одной затененной области. И если замысел Бентама привлек к себе внимание, то это произошло потому, что он давал применимую к большому числу различных областей формулу, так сказать, „власти через прозрачность”, покорения посредством „выведения на свет“» [178, с. 231].
Почти за двадцать лет реформ положение нисколько не улучшилось, гипостазирование вошло в привычку, стало новой нормой мышления. Эта норма воспринята политиками, но ведь над их выступлениями трудится целая рать научных советников.
Гипостазирование привело постсоветское обществоведение к фундаментально ложному представлению о свободном рынке. Разные авторы видели в нем разные сущности, но ничего определенного не было сказано. Обществоведы воевали ради этого призрака или против него. Здесь они пошли на поводу у радикальных идеологов неолиберализма, что говорит о методологической неустойчивости российского сообщества. Она, впрочем, сочетается и с нехваткой научной беспристрастности. В самой западной, в том числе либеральной, философии, имелось достаточно предупреждений о методологических изъянах неолиберальной концепции. Эти предупреждения как минимум должны были быть подвергнуты научной дискуссии, но их просто замалчивали.
Дж. Грей писал: «Общеизвестно, что, будучи вырванными из контекста общественной жизни и свободными от всяких политических ограничений, рыночные силы — особенно когда они носят глобальный характер, — работают на разрушение существующих общностей и подрыв легитимности традиционных институтов. Это, безусловно, банальность, но она выражает ту истину, что для большинства людей защищенность от риска более важна, чем богатство выбора, — истину, позабытую консервативными партиями и правительствами. Многим, а может быть, и подавляющему большинству людей это в целом весьма иллюзорное расширение выбора посредством высвобождения рыночных сил не компенсирует того существенного усугубления нестабильности и неуверенности, которое оно же и создает. В частности, неолиберальный курс способствовал распространению на представителей среднего класса той неуверенности и рисков, что всегда отравляли существование трудящихся слоев населения. Подкрепляя свою политику ссылками на идеологию Просвещения, идею совершенствования мира путем неограниченного развития глобальных рынков, западные консерваторы, по всей видимости, вновь возвращают к жизни класс „рантье“, но при этом способствуют безболезненному умерщвлению старого доброго среднего класса… Пропасть между насаждаемыми политическими идеями и современными политическими реалиями редко бывала столь широка и губительна, как сейчас» [62, с. 177, 182].
Важным объектом гипостазирования стало понятие частной инициативы. Как будто в ней кроется какая-то магическая сила, источник экономического развития, как у «невидимой руки рынка». В действительности мотором экономического роста, начиная с цивилизаций Тигра и Евфрата с их каналами и дамбами, являются большие организации людей, способные разрешать противоречия интересов, координировать усилия и мобилизовать ресурсы в масштабах, недоступных для частной инициативы. Наиболее высокие темпы и качество экономического роста были достигнуты в СССР в 30-е годы и в ходе восстановительной программы после войны. Это — общепризнанный в мировой экономической науке факт.
Возьмем реальность наших дней — экономику США. Из большого кризиса 30-х годов эта экономика вышла благодаря вмешательству государства («Новый курс»), а главное, благодаря введению принципов административно-командной экономики времен войны. После окончания войны были сильны опасения, что США снова сползут в депрессию, если вернутся к примату частной инициативы. Журналы «Fortune» и «Business Week» писали, что наукоемкая промышленность не может выжить «в условиях конкурентной, несубсидируемой экономики свободного предпринимательства» и что «правительство является единственным возможным ее спасителем».
Н. Хомский подробно разбирает большую государственную программу создания новых технологий и их передачи в частный сектор. «Масштабы программы, — пишет Хомский — быстро расширялись в период правления администрации Рейгана, которая вышла за все мыслимые рамки, нарушая принципы рынка… При Рейгане главная исследовательская структура Пентагона, ДАРПА, активно занималась внедрением в различных областях новых технологий… Это Управление занималось также учреждением внедренческих компаний. Журнал „Science“ поместил статью, в которой отмечается, что при Рейгане и Буше „ДАРПА стало основной рыночной силой в передаче новых технологий нарождающимся отраслям промышленности“». Администрация Рейгана, кроме того, в два раза увеличила защитные барьеры; она побила все послевоенные рекорды в области протекционизма» [182, с. 239].
Речь идет не только о таможенной защите американских фирм от конкуренции японских наукоемких товаров. Огромны и прямые субсидии промышленным корпорациям («ежегодно каждый американский гражданин платит 200 долларов из своих налогов в пользу „Lockheed-Martin“»). Хомский пишет о курьезном случае — о том, как Глава Федеральной резервной системы (Центробанка США) А. Гринспен в 1998 г. выступал перед редакторами американских газет: «Он страстно говорил о чудодейственных свойствах рынка, об удивительных вещах, которые стали возможны благодаря тому, что потребитель проголосовал за них своим кошельком и т. д. Он привел несколько примеров: Интернет, компьютеры, информационные технологии, лазеры, спутники, транзисторы. Любопытный список: в нем приведены классические примеры творческого потенциала и производственных возможностей государственного сектора экономики.
Что касается Интернета, эта система в течение 30 лет разрабатывалась, развивалась и финансировалась главным образом в рамках госсектора, в основном Пентагоном, затем Национальным научным фондом: это относится к большей части аппаратных средств, программного обеспечения, новаторских идей, технологий и т. д. Только в последние два года она была передана таким людям, как Билл Гейтс, который заслуживает восхищения, по крайней мере, за свою честность: он объясняет достигнутый им успех способностью „присваивать и развивать“ идеи других, а эти „другие“, как правило, работают в госсекторе. В случае с Интернетом предпочтения потребителя не играли почти никакой роли; и то же самое можно сказать применительно к ключевым этапам разработки компьютеров, информационных технологий и всего остального — если под словом „потребитель“, то есть государственные субсидии» [182, с. 239, 245].
Другие примеры — экономический рост Японии, стран Юго-Восточной Азии, сегодня Китая. Во всех этих случаях мотором была не «частная» инициатива, а большие государственные программы развития, в которых с высокой степенью координации соединялись предприятия разных типов и даже разные уклады. Недавно в Японии опубликован многотомный обзор японской программы экономического развития начиная со Второй мировой войны. В нем говорится, что «Япония отклонила неолиберальные доктрины своих американских советников, избрав вместо этого форму индустриальной политики, отводившую преобладающую роль государству». Примерно то же самое пишет председатель Совета экономических советников при Клинтоне лауреат Нобелевской премии Дж. Стиглиц об «уроках восточно-азиатского чуда», где «правительство взяло на себя основную ответственность за осуществление экономического роста», отбросив «религию» рынка [183, с. 46].