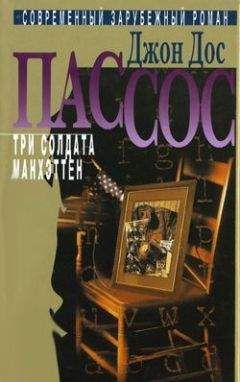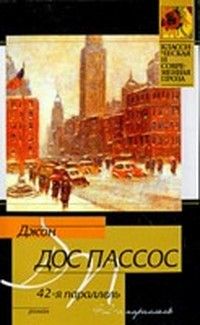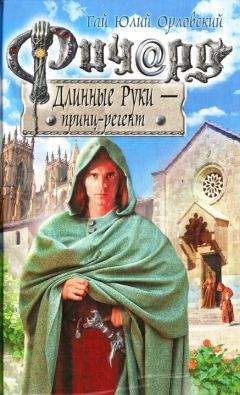Джон Пассос - Три солдата
Все оглянулись. Христианский юноша с взволнованным видом мотал головой из стороны в сторону, повторяя крикливым тоненьким голоском:
– Я сказал вам, что шоколада больше нет! Уходите!
– Какое вы имеете право гнать меня? Вы обязаны дать мне шоколад. Вы и на фронте-то никогда не были, мозгляк несчастный! – Человек кричал изо всех сил.
Он уцепился обеими руками за стойку и раскачивался из стороны в сторону. Его приятель старался увести его.
– Послушайте, бросьте эти штуки! Я подам на вас рапорт, – сказал христианский юноша. – Есть тут какой-нибудь офицер в бараке?
– Валяй, доноси! Мне не могут сделать ничего хуже того, что уже сделали! – Голос человека превратился в сплошной вопль ярости.
– Есть тут, в комнате, офицер?
Христианский юноша беспокойно искал по сторонам взглядом. Его маленькие глазки глядели жестоко и мстительно, а губы были сжаты в тонкую прямую линию.
– Успокойтесь, я уведу его, – сказал другой солдат тихим голосом. – Разве вы не видите, что он…
Непонятный ужас охватил Фюзелли. Он совсем не так представлял себе все это, когда смотрел, бывало, в кинематографе, в учебном лагере, как веселые солдаты в хаки входили маршем в города, преследовали убегавших в панике гуннов по засеянным картофелем полям и спасали бельгийских молочниц среди живописной природы.
– Много их возвращается в таком виде? – спросил он стоявшего рядом солдата.
– Порядочно! Это лагерь для выздоравливающих.
Больной солдат и его товарищ стояли рядом около печи, тихо разговаривая между собой.
– Возьми себя в руки, дружище, – говорил приятель.
– Ладно, Тоб, теперь уже все прошло. Этот мозгляк вывел меня из себя – вот и все.
Фюзелли смотрел на него с любопытством. У него было желтое пергаментное лицо и высокий худой лоб, уходивший вверх до редких вьющихся каштановых волос. Когда глаза их встретились, Фюзелли заметил, что у солдата они были точно стеклянные.
Тот дружелюбно улыбнулся ему.
– А, это тот парнишка, который видел шлемы фрицев в киношке! Пойдем, братец, выпьем пива в английском кабачке!
– Ты можешь достать пива?
– Еще бы, сколько угодно, там, в английском лагере!
Они пошли под косым дождем. Было почти темно. Небо, окрашенное в багрово-красный свет, бросало отблески на косые полы палаток и на ряды барачных крыш, терявшихся по всем направлениям в сетке дождя. Несколько огней горели яркой сверкающей желтизной. Они пошли по дощатым мосткам, сгибавшимся под их тяжелыми сапогами, разбрызгивая грязь.
В одном месте они наткнулись на мокрую полу палатки и отдали честь, когда мимо прошел офицер, весело помахивая тросточкой.
– А сколько времени обыкновенно держат ребят в этих лагерях для выздоравливающих? – спросил Фюзелли.
– Зависит от того, что делается там, – сказал Тоб, неопределенно указывая поверх палаток. – Ты кто такой?
– Санитарная команда.
– Так ты санитар! Ну, эти ребята недолго продержались в Шато, правда, Тоб?
– Да, недолго!
Что-то внутри Фюзелли протестовало: «А я продержусь, продержусь несмотря ни на что!»
– Помнишь, как эти молодцы отправились за бедным старичком капралом Джонсоном, Тоб? Будь я проклят, если кто-нибудь когда-нибудь нашел хоть пуговицу от их штанов! – Он засмеялся своим скрипучим смешком. – Они набрели на фугасы.
«Мокрый» кабачок[11] был полон дыма и приятного запаха пива. Он был набит краснолицыми людьми с блестящими медными пуговицами на формах цвета хаки; среди них было немало худощавых американцев.
«Все «томми»,[12] – сказал себе Фюзелли.
Постояв немного в очереди, Фюзелли получил из-за стойки кружку пенящегося пива.
– Хелло, Фюзелли! – Мэдвилл хлопнул его по плечу. – Ты, черт возьми, быстро пронюхал, где тут мокро!
Фюзелли расхохотался.
– Можно мне присоединиться к вам, ребята?
– Конечно, присаживайся, – гордо ответил Фюзелли, – эти молодцы были на фронте!
– Правда? – спросил Мэдвилл. – Говорят, гунны мастера драться! Скажите-ка, много там приходится действовать винтовкой или все больше пушки работают?
– Да уж! Целые месяцы меня морочили, обучали обращаться с винтовкой, а будь я проклят, если хоть раз пустил ее в ход. Я в отряде бомбометчиков.
Кто-то в глубине комнаты затянул песню:
Ах, мадермезель из Армантира,
Парле ву?[13]
Человек с нервным голосом продолжал говорить в то время, как вокруг них гудела песня.
– Ни одной ночи не проходит, чтобы мне не лезли в голову эти забавные чудные шлемы, которые носят фрицы. А вам никогда не казалось, что в них есть что-то чертовски забавное?
– Брось ты эти шлемы, – сказал его приятель. – Ты нам уже все про них рассказал.
– А разве я говорил вам, почему я не могу забыть их? Ведь нет?
Немчура офицер через Рейн шагнул,
Парле ву?
Немчура офицер через Рейн шагнул,
Любил он вино, и девиц, и разгул,
Парле ву?
– Вот послушайте, ребята, – сказал человек своим прерывающимся нервным голосом, пристально глядя прямо в глаза Фюзелли. – Однажды мы сделали маленькую атаку, чтобы чуточку выпрямить нашу линию траншеи… как раз перед тем, как меня ранили. Наши орудия обстреляли кусок фрицевых траншей, и мы побежали вперед (дело было как раз перед рассветом) и заняли их. Будь я проклят, если это не было сделано так же спокойно, как в воскресное утро дома.
– Верно, – подтвердил его приятель.
– При мне была куча ручных гранат. Вдруг подбегает ко мне один парень и шепчет: «Там, в окопах, сидят несколько фрицев, дуются в карты. Они, как видно, не знают, что окружены. Захватим-ка их в плен!» – «К черту пленных, – говорю я, – мы от них мокрого места не оставим!» Вот мы поползли вперед и заглянули в окоп…
Ах, мадермезель из Армантира,
Парле ву?
Их каски дьявольски напоминали грибы-поганки; я чуть было не расхохотался. Они сидели вокруг лампы; один сдавал – важно этак, медленно. Ну точь-в-точь как немцы всегда сдают – я видал дома, в биргалке…
Нашим янки чертовски круто пришлось,
Парле ву?
Я долго лежал этак, глядя на них, потом вытащил гранату, тихонечко спустил ее вниз по ступенькам, и все эти забавные каски, похожие на поганки, вдруг подскочили в воздух; кто-то взвыл, свет погас, и проклятая граната взорвалась. Я оставил их собирать свои потроха, а сам ушел, потому что один из них все еще как будто стонал. Вот в это-то время они открыли артиллерийскую пальбу, и меня ранило.
Янки любит быть в трактире,
Парле ву?
И первое, о чем я подумал, когда проснулся, были эти проклятые шлемы. Просто свихнуться можно, парень, если думать о таких вещах. – Его голос перешел в всхлипывание и напоминал прерывающийся голос ребенка, которого побили.
– Тебе нужно взять себя в руки, дружище, – сказал его товарищ.
– Я и сам знаю, что нужно, Тоб! Женщина – вот что мне нужно!
– А ты знаешь, где достать ее? – спросил Мэдвилл. – Я бы и сам не прочь раздобыть себе славную французскую дамочку в этакую дождливую ночь.
– В город-то теперь, должно быть, чертовски тяжелая дорога, да к тому же там, говорят, так и кишит военной полицией, – сказал Фюзелли.
– Я знаю одну дорогу, – сказал человек с нервным голосом. – Пойдем, Тоб!
– Нет, с меня довольно этих лягушатниц проклятых! Они вышли все вместе из кабачка.
Когда оба товарища отделились и направились вниз по улице, Фюзелли услышал сквозь металлическую дробь дождя нервный прерывающийся голос:
– Не знаю, что и придумать, чтобы забыть, как забавно выглядели каски этих молодцов вокруг лампы… Просто придумать не могу!
Билли Грей и Фюзелли соединили свои одеяла и улеглись рядом. Они лежали на твердом полу палатки, тесно прижавшись друг к другу, и прислушивались к дождю, беспрерывно барабанившему по промокшей парусине, натянутой вкось над их головами.
– Черт побери, Билли, у меня, кажется, начинается воспаление легких, – сказал Фюзелли, прочищая нос.
– Я единственно только и боюсь во всей этой проклятой истории, как бы не подохнуть от болезни. А говорят, еще одного парня скрутило от этого, как его… менингита.
– Это то, что у Штейна было?
– Капрал не желает говорить.
– Старина капрал сам не очень-то здоров с виду, – сказал Фюзелли.
– Все этот климат гнилой, – прошептал Билли Грей среди приступа кашля.
– Тысяча чертей, кончите вы когда-нибудь с вашим кашлем?! Уснуть человеку не дадут, – раздался голос с другого конца палатки.
– Пойди возьми себе комнату в гостинице, если он тебе мешает!
– Верно, Билли, так его!
– Если не перестанете галдеть, ребята, я всех завтра на кухню засажу, – раздался добродушный голос сержанта. – Не знаете вы разве, что уже протрубили зорю?
В палатке воцарилась тишина, нарушаемая только дробью дождя и кашлем Билли Грея.
– У меня от этого сержанта живот подводит, – плаксиво сказал Билли Грей, сворачиваясь под одеялам, когда его кашель успокоился.