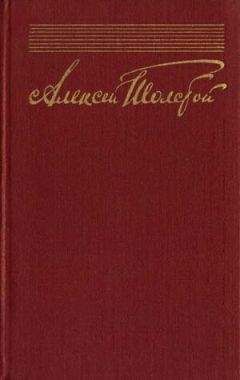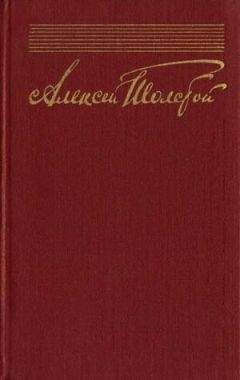Алексей Толстой - Собрание сочинений в десяти томах. Том 2
Но заснуть ему было трудно и даже невозможно: и грело солнце, лежащее на скобленом полу, и пахли смолой новые стены, и в свету, между полом и окном, звеня, крутилась муха, и, главное, все, что происходило в комнате и на воле, было само по себе, а он был сам по себе. Муха села ему на нос. Давыд Давыдыч сморщился, дунул на нее, обиделся и ловко поймал муху, зажужжавшую в кулаке.
– Вот я тебя курице отдам, – сказал Давыд Давыдыч, нехотя слез с дивана, прошел в соседнюю комнату и, перегнувшись в открытое окно, позвал курицу. Степенно на зов подошла белая брамапутра, любимица, и, наклонив головку, поглядела красным глазом.
– Вот, клюнь, – сказал Давыд Давыдыч, поднося мушку, но курица отдернула голову, и муха улетела. На солнцепеке было совсем тепло и пахло землей. Но, отступя три шага, еще лежал грязной коркой снег, и чем дальше, тем был он белее, и, поднимая глаза, увидел Давыд Давыдыч свой, еще под снегом, пар, курганы с репейниками, лиловую полосу дубравы и за ней скромную белую церковь со светлым крестом.
Давыд Давыдыч так и остался лежать животом на окошке, наморщив лоб, сдвинув концы приподнятых бровей. Крупный прямой нос его покраснел немного, курчавая светлая бородка и небольшие усы прикрывали рот, сжатый в скорбную гримасу.
2
Три эти дня перед половодьем, когда на развалинах недавно еще крепкой зимы все, встряхиваясь, напрягло земляные силы, чтобы раскрыться, зашуметь, заголосить, – были для Давыда Давыдыча тяжким бременем.
Ему шел тридцатый год. В этом январе он разошелся с женой и, после многих лет, вернулся опять в небольшое свое родовое имение, где сад был порублен, старый дом сгорел и все, что он помнил и любил, даже то, чем он мог, не задумываясь, жить, оказалось словно вырубленным и сожженным.
Сгоревший дом, где родился Завалишин, был очень большой и такой путаный, что можно было постоянно открывать в нем новые комнаты и закоулки.
Сложным, темным и таинственным был и сад, где яблони жались только около балкона, отодвинутые отовсюду зарослями акаций, черемухи, сирени и черной ольхи, под горой, у пруда, день и ночь шумели вековые осокори, по их дуплам жили белки и совы, и множество птиц куковало, пело и посвистывало в листве, а по ночам летали мыши и верещали жабы. На полянах же и дальних аллеях росла высокая, густая трава.
Когда Давыду Давыдычу не хватало еще до аршина росту, все помыслы его были заняты этой буйно растущей травой. Тюльпаны, чернобыльник, белая и желтая кашка, метелки и пупочки, могучие репейники и дудки, обвитые повиликой, качались и цвели повыше его головы; над ней же толклись неуловимые мошки и бабочки и гудели зловещие насекомые. Живя и вырастая с травой, Давыд Давыдыч научился многим ухваткам – подкрадываться и ловить, уклоняться от нападения, прятаться или бежать, нагнувшись, в зеленой глубине.
Когда же он стал опытнее и повыше, трава оказалась травой, и в ней никто, кроме жуков и ежей, и не жил. К этому времени открыл он длинную и полутемную комнату, уставленную черными шкафами. Здесь были книги, мыши и запах мудрой плесени. Давыд Давыдыч садился в глубь дивана и читал приключения. Он полюбил веселый нрав зверей, птиц и всей живой твари, траву же стал считать враждебной и сражался с ней деревянным мечом. Лазил на осокори, обшаривал гнезда, стрелял из лука и бил головастиков гарпуном.
Но с каждым летом Давыд Давыдыч все больше убеждался, что в саду нет ничего необыкновенного, сколько ни открывай и ни обшаривай темных углов. И почувствовал скуку, словно впереди ожидались таинственные события, а сейчас только было томительно, некуда себя ткнуть.
Впоследствии все чаще стало повторяться у него такое ожидание необыкновенного и таинственного, и каждый раз он думал, что настоящая жизнь тосклива, испытана и понятна. Тогда же это ожидание совпало с семейным несчастием. Отец Давыда Давыдыча часто уезжал (матушка тогда бывала особенно грустной), когда же возвращался, то ходил мрачный, и Давыд Давыдыч иногда среди ночи просыпался от гневного его крика снизу, из спальни, и, проснувшись, плакал в своей постели. Но наутро матушка была, как всегда, бледная и печальная; отец же, едва сдерживая гневный блеск черных глаз, привлекал сына и рассеянно гладил его по голове до тех пор, пока Давыду Давыдычу не становилось скучно и больно. Иногда матушка стремительно прибегала в сад и, словно сын ее спасся от несчастья, прижимала и целовала его, но Давыд Давыдыч не понимал и этих ласк.
Однажды отец вернулся из города вместе с маленькой черной и надушенной дамой, и матушка стала вдруг необыкновенно оживленна – смеялась, ездила верхом, пела и гуляла с приезжей. Но вскоре Давыд Давыдыч набежал в саду на отца, который стоял за толстым деревом, втянув голову в плечи и держа в руке револьвер; издалека же по аллее неспешно шла матушка в белой шали. Давыд Давыдыч тронул отца за локоть, отец выронил револьвер, закрыл глаза и страшно закричал… В ту же ночь матушка разбудила Давыда Давыдыча, вывела на черный двор, посадила в тарантас, и они ехали до рассвета, пока на краю степи, за осенним туманом, не увидели главы церквей, водопроводную башню и дома губернского города.
Всю зиму Давыд Давыдыч, утруждаемый грамматиками и законом божиим, читал Тургенева, потом Гоголя. Весною сдал экзамены на круглое два, но зато понял, какие еще таинственные встречи ждут его в старом доме и в саду.
На Фоминой в номер, где они жили, вошел отец, очень похудевший, но ласковый, поговорил с матушкой, посидел на диване, закрыв лицо рукой, и увез сына в деревню. Черная маленькая дама там больше не жила.
Но недолго веселился Давыд Давыдыч. Сад и дом опять опутали его новыми чарами. Пробираясь в темные кущи за прудом, заглядывая за необхватные осокори, раздвигая кусты куртин, где гнили скамейки и столы на одной ноге, поднимаясь вверх, в нежилые и пыльные комнаты, рассматривая сквозь цветные стекла дверей колонны заколоченной залы, – повсюду боялся он встретить кого-то и бродил и томился, ожидая встречи. Он похудел и вытянулся; на узком лице легли круги под глазами, он прятался, заслышав голос отца; на вопрос – о ком скучает – краснел, и сад уже казался ему совсем волшебным, потому что в нем жило и пряталось оно. Оно могло оказаться девушкой, как у Тургенева, и загорелой хохлушкой в маковом венке, и ведьмой с голыми ногами, и даже русалкой.
Сидя на выгнутой коленом над водой березе, подолгу глядел Давыд Давыдыч в пруд, на листья купавы, на отраженные камыши, на глубокую зеленую тихую воду, и ждал, когда же из глубины, плавно поводя руками, выплывет под самые березовые корни опасная русалка.
Оно появилось после полудня, в июне, в малиннике. Оно оказалось худенькой девочкой в синей кофте, босой, простоволосой, со смешным лицом и большими глазами. Давыд Давыдыч огорчился, увидев, что оно такое смешное, но подошел все-таки, поглядел исподлобья и спросил:
– Что ты тут делаешь?
Девочка усмехнулась, посмотрела и быстро убежала, махнув черной косой.
Давыд Давыдыч стал приходить каждый день в малинник и опять встретил ее, уже с кошевочкой. Он сам нарвал ей малины, они сели в траву, и он спросил – как ее зовут. Девочка покачала головой и подняла к небу синие глаза, в них сейчас же отразились два облака.
– Ты, может быть, в пруду живешь?
– Нет, – ответила девочка, – я живу у моей маменьки, вдовой попадьи, зовут меня Оленька.
Когда кончилась малина, Давыд Давыдыч показал девочке весь сад, потом повел в библиотеку, где вслух принялся читать любимые повести.
Девочка сначала только смеялась, потом начала понимать и внимательно слушала и однажды даже заплакала горько над трогательным описанием малютки, заблудившейся в снежную ночь.
Давыд Давыдыч, увидев слезы, тут же поклялся, что сам никогда не доведет ее до подобного горя.
– Поцелуй крест, – сказала девочка и расстегнула фарфоровую пуговку, высвободив на худенькой груди медный крестик…
Давыд Давыдыч поцеловал его, поглядел на серьезную девочку, она тоже поглядела, оба они покраснели, и Давыд Давыдыч сказал:
– Что ты красная какая, как кучер…
Девочка после этого не приходила, и он, поджидая ее, залез на дерево, откуда видна поросшая гусиным щавелем дорога, дубрава вдали и церковь за ней. На дереве он сочинил свои первые стихи, которые начинались так:
Вот по дороге, с сумой и клюкой,
Шел нищий убогий, хромой и слепой.
Навстречу природа попалась ему,
И нищий молил, поднимая суму…
Неожиданно отец вернулся из города с матушкой, и они, смирные, ходили по аллеям, заложив руки, и сидели на балконе в сумерках.
– Ну, что же, не удалась жизнь – начнем другую, – негромко повторял отец.
Давыд Давыдыч очень обрадовался матери и тому, что больше его не ласкали, как пропащего, но по ночам стали донимать его сны, полные стуков, шорохов и беготни, которую, просыпаясь, он слышал и наяву, думая, что не затевает ли какой беды старая крыса.