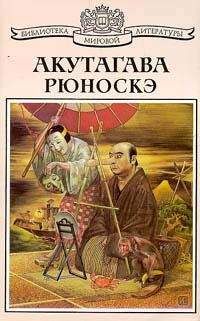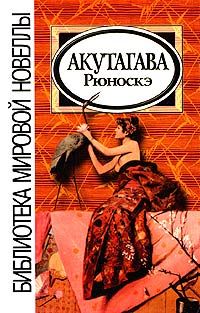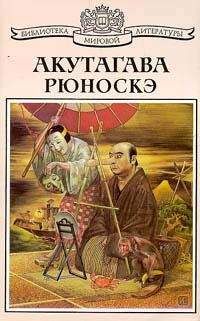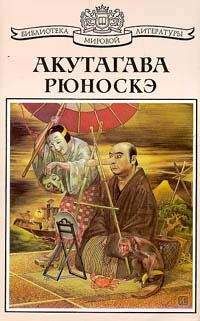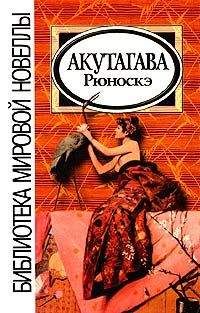Акутагава Рюноскэ - Избранное
Так, сидя за столом и глядя на несостоявшуюся свою рукопись тем самым взором, каким командир потерпевшего крушение корабля обводит погружающееся в воду вверенное ему судно, Бакин продолжал тихо бороться с захлестнувшим его отчаянием. Наверное, он так никогда и не вырвался бы из его пут, если бы в следующий миг за его спиной вдруг не раздвинулись с шумом фусума и вместе с возгласом: «Дедуся, а вот и я!» — нежные маленькие ручонки не обхватили бы его шею. Не успев вбежать в комнату, внук Таро со смелостью и простодушием, свойственными одним лишь детям, резво взобрался на колени к Бакину.
— Дедуся, а вот и я!
— А-а, как хорошо, что ты уже вернулся.— При этих словах на морщинистом лице автора «Восьми псов» сверкнула радость, преобразившая его.
14
Из столовой доносился пронзительный голос жены О-Хяку и застенчивый голос невестки О-Мити: женщины оживленно переговаривались между собой. Время от времени к ним присоединялся низкий мужской голос — значит, вместе с женщинами вернулся и сын Сохаку. Взобравшись на колени к деду, Таро вдруг посерьезнел и уставился в потолок с таким видом, будто прислушивался к разговору взрослых. От пребывания на свежем воздухе щеки его раскраснелись, кончик крохотного носа двигался при каждом вздохе.
— Дедуся, а дедуся!..— неожиданно произнес малыш, одетый в кимоно с узором в виде цветов каштана и сливы. От усилия сосредоточиться и подавить в себе смех на его щеках то и дело появлялись и пропадали ямочки.
Глядя на внука, и самому Бакину невольно захотелось улыбнуться.
— Дедуся, ты каждый день...
— Что каждый день?
— Должен работать.
Бакин громко рассмеялся и сквозь смех спросил:
— Ну, а что дальше?
— А дальше... ну, как это... тебе велено не выходить из терпения.
— Ах, вот оно что. И это все?
— Нет, еще не все.— Запрокинув головку со связанными наверху боковыми прядями, Таро звонко засмеялся.
Глядя на то, как он смеется, сощурив глаза, обнажив белые зубки, и как от смеха у него на щеках обозначаются ямочки, трудно было представить себе, что когда-нибудь, когда он вырастет, на его лице появится то же выражение печали, что и у всех людей на этом свете... Так размышлял Бакин, погружаясь в охватившее его ощущение счастья. И эта мысль еще больше развеселила его.
— Так что же еще мне велено?
— Много чего.
— Ну что же, говори скорее.
— Э-э... Ты, дедуся, станешь более великим, чем сейчас, и поэтому...
— Великим? И что поэтому?
— Поэтому тебе велено быть терпеливым.
— Я и так терпелив, — отозвался Бакин неожиданно серьезно.
— Еще, еще более терпеливым!
— А кто же все это мне велел?
— Это велел...— Тут Таро озорно заглянул деду в лицо и рассмеялся.— Сам догадайся, кто велел!
— Ну-у, вы сегодня ходили в храм, и, наверное, все это сказал господин священник.
— А вот и нет! — Таро решительно мотнул головой и, наполовину соскользнув с коленей деда, продолжал, слегка выпятив подбородок: — Сказать, кто велел?
— Конечно, говори скорее!
— Каннон-сама[85] в храме Асакуса[86]! — С этими словами мальчуган громко, на весь дом, рассмеялся и стремительно вырвался из рук Бакина, словно опасаясь, как бы тот его не поймал. Хлопая в ладоши оттого, что ему так ловко удалось провести деда, он вприпрыжку побежал в столовую.
В это мгновение в душе Бакина блеснуло что-то торжественное и величавое. На губах затрепетала счастливая улыбка. Глаза наполнились слезами. Его ничуть не интересовало, сам ли Таро придумал эту шутку или это мать его надоумила. То, что он услышал сейчас из уст внука, было настоящим чудом. «Богиня Каннон велела работать. Не выходить из себя. Быть еще более терпеливым».
Старый шестидесятилетний писатель смеялся сквозь слезы и кивал головой, точно ребенок.
15
Вечер того же дня.
При тусклом свете круглого бумажного фонаря Бакин принялся править рукопись «Восемь псов». Когда он работал, в его комнату не входил никто, даже домашние. Царившую здесь тишину нарушало лишь чуть слышное потрескивание фитиля; сливаясь с пением сверчков, оно служило мерой безмолвия долгой осенней ночи.
Как только Бакин взялся за кисть, в его мозгу зажглось нечто похожее на слабое мерцание. Но стоило кисти начертать десять, двадцать строк, как это мерцание сделалось мощнее, ярче. Хорошо знавший по опыту, что это такое, Бакин с величайшей осторожностью водил кистью. Ведь вдохновение — тот же костер: если его неумело разжечь, он сразу же погаснет...
— Не торопись. Повремени и поразмысли как следует, — шептал Бакин, стараясь удержать рвущуюся вперед кисть. Однако нечто в его мозгу, подобное свечению раздробленной на мелкие осколки звезды, уже неслось стремительнее водного потока. Это нечто с каждым мигом набирало силу и против воли увлекало его за собой.
Он уже не слышал стрекота сверчков. Тусклый свет фонаря больше не раздражал его. Кисть в его руке, казалось, обрела собственное, отдельное бытие и безостановочно скользила по бумаге. Теперь он писал почти неистово, так, будто в нем слились бог и человек. Поток, проносящийся в его голове с быстротой бегущего по небу Млечного Пути, становился все более полноводным. Эта поразительная стихия страшила его: он опасался, что его физические силы не устоят перед ее натиском. Крепко сжимая в пальцах кисть, он приказывал себе: «Пиши, покуда хватит сил! Если не напишешь сейчас, то уже никогда не напишешь».
Но поток, мерцающий, как дымка, и без того не сбавлял скорости. В головокружительном порыве сметая все на своем пути, он с натиском обрушивался на Бакина. В конце концов писатель полностью покорился ему. Позабыв обо всем на свете, он отдал кисть во власть стихии.
В эти мгновения в его победоносном взгляде выражалось то, что находится по ту сторону обретений и потерь, любви и ненависти. В нем не осталось и следа волнений — он забыл и про хулу, и про хвалу. В нем было лишь одно — непостижимая радость, точнее — патетический подъем. Человеку, не испытавшему ничего подобного, не понять того состояния разума, которое зовется одержимостью творчеством. Не понять строгого в своем величии духа художника. А между тем именно в такие мгновения взору писателя открывается Жизнь, очищенная от всего наносного и сверкающая, подобно только что родившемуся кристаллу...
* * *
Тем временем в столовой, расположившись друг против друга, при свете бумажного фонаря занимались вышиванием свекровь О-Хяку и невестка О-Мити. Таро уже уложили спать. Примостившись чуть поодаль, тщедушный Сохаку скатывал лекарственные пилюли.
— Отец еще не ложился,— недовольно проговорила наконец О-Хяку, смазывая иголку маслом для волос.
— Да. Наверное, опять пишет. А когда он увлечен работой, то забывает обо всем на свете,— откликнулась О-Мити, не поднимая головы от вышивания.
— Вот недотепа! Добро бы эта его работа приносила семье приличный доход, а то...— С этими словами О-Хяку взглянула на сына и невестку. Сохаку сделал вид, будто не слышит, и ничего не сказал в ответ. Промолчала и О-Мити. И здесь, и в комнате Бакина слышно было, как разливается в ночи нескончаемый плач сверчков.
1917, ноябрь
Рассказ Ёноскэ[87]
риятель (обращаясь к Ёноскэ). Да, кстати, я хотел бы задать тебе один вопрос, если позволишь.
Ёноскэ. Ну и церемонный же ты, братец! Какой же именно вопрос?
Приятель. Дело в том... Дело в том, что сегодня необычный день. Говорят, ты вот-вот отплываешь из Идзу на остров Женщин[88]. Значит, нынче прощальная пирушка?
Ёноскэ. Выходит, так.
Приятель. Вот завел я этот разговор, а стоит ли его продолжать — не знаю: боюсь, как бы он не испортил нам веселья, да и перед тайю[89] неловко.
Ёноскэ. В таком случае не продолжай.
Приятель. Не могу. Ведь я уже начал.
Ёноскэ. Тогда говори!
Приятель. Не так это просто...
Ёноскэ. Почему?
Приятель. Потому что в данном случае ни вопросы, ни ответы не доставят нам с тобой особого удовольствия. Но раз ты настаиваешь — я наберусь храбрости и спрошу.
Ёноскэ. Ну говори же, в чем, собственно, дело.
Приятель. А как ты сам думаешь, в чем?
Ёноскэ. Вот размазня, право. Будешь ты наконец говорить или нет?
Приятель. Раз ты сердишься, мне вдвойне неловко обращаться к тебе. Дело в том... Если верить написанному про тебя недавно в книге Сайкаку, ты впервые познал женщину в семилетнем возрасте...
Ёноскэ. Ой, ой, уж не собираешься ли ты уличить автора во лжи?