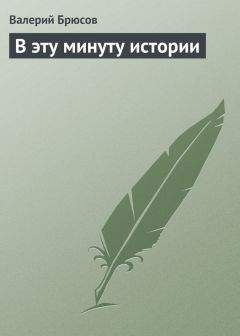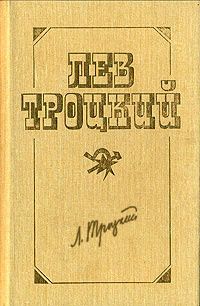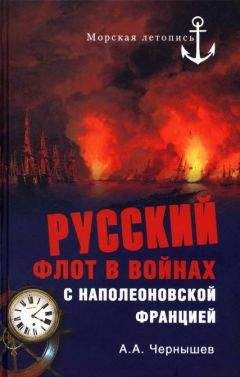Фридрих Шлегель - Немецкая романтическая повесть. Том I
Бартельс подробно касается и романтики. Так как индивидуального в Бартельсе ничего не содержится, так как весь он со своими истребительными инстинктами устроен по Брему, то суждения его являются фашистско-типовыми.
«Я не могу этого отрицать, по крайней мере для меня ранняя романтика имеет оттенок «декаданса»[4], и ее вожди моими симпатиями не пользуются»
(стр. 230).«Не в границах 1796 года, но в границах 1806 года следует искать истинно романтическую немецкую молодежь»
(там же).Симпатии Бартельса на стороне некоторых гейдельбержцев и в особенности на стороне поэтов так называемых освободительных войн — эпохи, излюбленной фашистами. Ранняя романтика, помимо своих связей с французской революцией, грешна, по Бартельсу, еще своими еврейскими знакомствами. Фридрих Шлегель был женат на Доротее, дочери Мендельсона, И эта Доротея была автором «в корне нездорового» романа «Флорентин». Шлейермахер дружил с еврейкой Генриеттой Герц. Рахиль Фарнгаген тоже относилась к романтическому кругу.
«Начиная с этих пор и датируется влияние еврейства на нашу поэзию, влияние, затем едва ли прерывавшееся и не раз достигавшее опасных размеров»
(стр. 243).Таким образом, иенские романтики чуть ли не инициаторы величайшего несчастья немецкой литературы.
Фашисты переместили акцент интересов с иенской романтики на позднейшие периоды и главным образом на политическую романтику, с Адамом Мюллером во главе. Вообще художественная практика романтиков не слишком привлекает фашистов. Искусство с его особыми условиями, связанное воспроизведением действительности, либо не в силах реализовать ирреальные замыслы, либо же в самом произведении искусства перевернутые отношения объективного мира сами, независимо от автора, устанавливаются в их правильном и подлинном виде.
Поэтому и самому фашизму не дается никакая собственная художественная литература, поэтому он не может довериться и чужому художественному опыту — для него предпочтительнее голые высказывания, манифест и декларация. Завершая тенденции империалистической буржуазии, фашисты реставрируют политическую романтику как последнее слово в «положительной части» учения школы. Даже фон-дер-Марвиц, этот отмеченный Энгельсом лошадник и кнутобоец, находит благодарных исследователей.
Известный австрийский теоретик фашизма О. Шпан в своих работах по вопросам права, государства и хозяйства списывает из Адама Мюллера тезис за тезисом. Как и Мюллеру, романтическая идея «целостности» служит ему для обоснования первенства государства над индивидуумом. Как Адам Мюллер, он мечтает о феодализации современного общества, с той разницей, что Адам Мюллер рассчитывал на подавление буржуазии, а Шпан рассчитывает на подавление пролетариата.
Национализм гейдельбержцев и поэтов «освободительной войны» вторит шовинизму фашистов, которые готовят реваншистскую войну и озлобленно борются с международной идеологией движения пролетариата. В области культурной политики национализм дает бесцеремонный критерий «германского» и «не-германского», с чьей помощью фашизм довершает духовное разорение Германии и истребляет оппозиционное творчество.
Н. Берковский
ФРИДРИХ ШЛЕГЕЛЬ
ЛЮЦИНДА
Пролог
С улыбкой умиления обозревает и открывает Петрарка собрание своих бессмертных романсов. Вежливо и любезно беседует мудрый Бокаччо со всеми дамами в начале и в конце своей богатой книги. И даже великий Сервантес, будучи старцем и уже в агонии, все еще дружелюбный и преисполненный тонкого остроумия, облачает пестрое зрелище своих полных жизнью произведений драгоценным ковром вступления, которое само по себе является прекрасной романтической картиной.
Извлеките великолепное растение из плодотворной материнской почвы, и многое любовно прильнет к нему, что только скряге может показаться излишним.
Но что может дать мое вдохновение своему детищу, которое, подобно ему, так бедно поэзией и так богато любовью?
Только одно слово, один образ на прощание: не один только царственный орел смеет презрительно относиться к карканью воронья; лебедь столь же горд, и также его не замечает. Его не беспокоит ничто, кроме того, чтобы блеск его белых крыльев оставался незапятнанным. Он думает лишь о том, чтобы благоговейно прильнуть к коленам Леды и чтобы все, что в нем есть смертного, выдохнуть в песне.
Исповедь неловкогоЮлий — Люцинде
Люди, со всем тем, чего они хотят и что они делают, представились мне, когда я о них вспомнил, пепельно-серыми фигурами, лишенными движения; но в окружавшем меня священном уединении все состояло из света и красок, и свежее теплое дыхание жизни и любви овевало меня, и шелестело, и шевелилось в каждой веточке пышной рощи. Я взирал и одинаково наслаждался всем: и сочной зеленью, и белыми цветами, и золотыми плодами. И так я видел внутренним оком единственную, вечно и безраздельно любимую во многих образах: то в виде ребячливой девушки, то в виде женщины в полном расцвете и энергии любви и женственности, и потом в виде достойной матери с серьезным мальчиком на руках. Я вдыхал весну, ясно видел я вечную молодость вокруг себя, и, улыбаясь, сказал я: «Если мир является далеко не лучшим или полезнейшим, то все же я знаю, что он является прекраснейшим». В таких моих чувствах или размышлениях меня ничто не могло бы потревожить, ни всеобщее сомнение, ни собственный страх. Я уверен был в том, что мне удалось проникнуть углубленным взором в сокровенные недра природы; я чувствовал, что все вечно живет и что смерть тоже дружественна и является лишь иллюзией. Однако я об этом не слишком размышлял, по крайней мере к членению и расчленению понятий я был не слишком склонен. Но я охотно и глубоко терялся во всех сочетаниях и сплетениях радости и боли, которые придают вкус жизни, интенсивность впечатлению и являются источником духовного сладострастья и чувственного блаженства. По жилам моим струилось тонкое пламя; то, о чем я мечтал, было не только поцелуем, объятием твоих рук, то было не только желанием уничтожить мучительное жало тоски и охладить сладостный пыл в обладании; не только по губам твоим я томился, или по глазам твоим, или по твоему телу: то была романтическая спутанность всех этих моментов, чудесная смесь разнообразнейших воспоминаний и томлений. Все мистерии женского и мужского своеволия, казалось, витали вокруг меня, когда меня, уединенного, внезапно всецело зажгло твое подлинное присутствие и мерцание цветущей радости на твоем лице. Шутки и восторги стали тут чередоваться и превратились в единый пульс нашей объединенной жизни; мы обнимались столь же свободно, как и благоговейно. Я очень просил, чтобы ты хоть однажды всецело предалась страсти, и я умолял тебя сделаться ненасытной. Тем не менее я прислушивался со спокойной рассудочностью к каждому чуть слышному проявлению радости, чтобы ни одно из них от меня не ускользнуло, чтобы не допустить прорыва в гармонии. Я не просто наслаждался, но я ощущал и наслаждался также и наслаждением.
Ты так необыкновенно умна, любимейшая Люцинда, что ты, вероятно, давно уже пришла к заключению, что все это только чудный сон. К сожалению, это так и есть, и я был бы безутешен, если бы мы в близком будущем не смогли осуществить его, хотя бы частично. В действительности же было только то, что я перед этим стоял у окна; как долго — этого я точно не знаю, так как вместе со всеми правилами рассудка и нравственности я утратил также и способность к учету времени. Итак, я стоял у окна и смотрел на волю; утро во всяком случае заслуживает того, чтобы назвать его чудным: воздух тихий и достаточно теплый; зелень здесь передо мной совершенно свежа; и сообразно тому, как широкая равнина то поднимается, то опускается, спокойный, широкий серебристо-светлый поток извивается большими взмахами и дугами до тех пор, пока он вместе с фантазией влюбленного, подобной качающемуся на нем лебедю, не углубится в даль и медленно не потеряется в необъятном. А возникновение рощи с ее южным колоритом в моем воображении обязано, вероятно, большой купе цветов, находящейся здесь, рядом со мной, среди которой имеется достаточно апельсинных. Все остальное легко поддается психологическому объяснению. Это была только иллюзия, милая подруга, все это — иллюзия, кроме того, что я перед этим стоял у окна и ничего не делал, и что я сейчас сижу здесь и делаю нечто, что также является немногим более или скорее даже менее, чем ничегонеделанием.
_____То, о чем я говорил сам с собой, было описано тебе вплоть до этого момента, как вдруг посреди моих нежных мыслей и глубокомысленных чувств, содержанием которых являлось столь же изумительное, сколь и запутанное драматическое соответствие наших объятий, я был прерван нелепым и нелюбезным случаем. Он прервал меня именно тогда, когда я намеревался в ясных и подлинных периодах развернуть перед тобой точную и обстоятельную историю нашего легкомыслия и моей меланхолии; я намеревался также построить чем далее, тем более исчерпывающее в силу естественных закономерностей разъяснение наших недоразумений, относящихся к сокровенному средоточию тончайшего бытия, и описать многообразные результаты моей неловкости, а также ученические годы моей возмужалости. Эти годы я не могу обозревать ни в целом, ни в отдельных частностях без многих улыбок, без некоторой тоски и достаточного самоудовлетворения. Однако я хочу попробовать в качестве образованного любителя и писателя изобразить грубую случайность и превратить ее в целесообразность. Но для меня и для этой рукописи, для моей любви к ней и для ее построения как такового нет цели целесообразнее той, чтобы я с самого же начала уничтожил то, что мы называем порядком, отдалился от него, определенно присвоил себе право создавать очаровательное смешение и это право проявил на деле. Это тем более необходимо, что материал, который наша жизнь и наша любовь сообщают моему вдохновению и моему перу, является столь неудержимо нарастающим и столь неуклонно систематичным. Если бы дело сводилось к форме, то это в своем роде единственное письмо приобрело бы в силу этого невыносимое однообразие и монотонность и утратило бы то, чем оно хочет и чем оно должно быть: изображением и дополнением прекраснейшего хаоса возвышенной гармонии и интересных наслаждений. Итак, я пользуюсь моим неоспоримым правом на смешение для того, чтобы вложить сюда на совсем ненадлежащее место один из тех многих разбросанных листков, который я под влиянием тоски или нетерпения, не найдя тебя там, где вернее всего должен был бы найти, — в твоей комнате, на нашей кушетке, — заполнил или испортил пером, только что употребленным тобою, первыми подвернувшимися словами, — листок, который ты, добрая, без моего ведома заботливо сохранила.
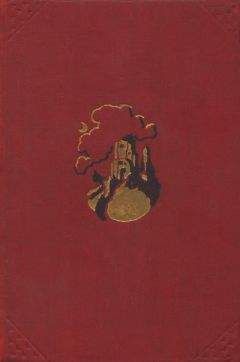
![Елена Кукина - Русская живопись первой половины XIX века. Романтизм, академизм и бидермайер [статья]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)