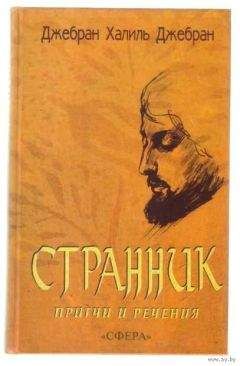Михаил Пришвин - Дневники 1914-1917
Девушка Мариэтта Шагинян, влюбленная в Гиппиус: шум юбки.
Тем она и страшна, эта хлыстовщина, что человек для жизни опустошается. Дает высшую радость самовольной мечте… После все плоско. А в то время, когда я начал ходить к Мережковскому, он уже боролся с декадентством-хлыстовщиной: Книжник вертится [66], а он вовсе и не вертелся. Ремизов очень бы хотел повертеться. Вообще все бы с удовольствием повертелись, а потому заискивали у хлыстов. («Повертеться желали» — а хлысты вовсе и не вертелись.) Для тех это все «шалуны» [67]. Мережковский стал проповедовать воплотившегося Христа.
Мережковский и хлысты спасали культуру через Эрос. Личность — начало.
Быть может, никогда литература так близко не стояла к народу, как в эпоху декадентства: характеризовать тип богов и этики: чем отличаются? У одних эстетика, у других религия: это и есть отличие.
Картина (общая) России: кабак, церковь, кладбище… и проч. — заняться этой общей картиной.
Цель: техническое преодоление трудностей писания: от восприятия к выражению: Розанов.
У сестер Володиных у всех есть закваска их старой тетушки, за которой ухаживал, говорят, еще мой батюшка, но ничего не добился: она предпочитала ему цитру с металлическими струнами. И не то, чтобы она была бы какой-нибудь выдающейся артисткой, нет, страсть ее была совершенствоваться в чем-нибудь, чего-нибудь достигать: в период знакомства с моим отцом она достигала совершенства на цитре, потом была живопись, потом английский язык, потом целый <длинный список> всевозможных достижений и, наконец, уже в глубокой старости опять цитра, цитра сама но себе, без всяких воспоминаний в связи с ухаживанием моего отца. В громадном доме Володиных, в какой-то неизвестной мне комнате, — комнат было так много, что, может быть, и не мне одному была неизвестной эта комната, — сидела, запираясь на ключ, эта старая тетушка и все достигала и достигала на цитре совершенства. Очень редко она из своего затворничества и показывалась к нам, всегда насыщенная каким-нибудь достижением, всегда собой довольная и для нас ужасно, по-сумасшедшему несчастная.
Частица ее духа передалась всем Володиным, и все сестры вечно чего-нибудь достигают. Старшая сестра, Софья Николаевна, теперь уже пожилая, из-за этой склонности осталась девушкой: теперь она изучает жуков и рассылает коллекции по народным школам. Средняя сестра, Мария Николаевна, чуть-чуть не вышла замуж, но чуть ли не в самый момент бракосочетания отступила: не нашла мужа достаточно идейным. Теперь она оканчивает уже третьи курсы. Младшая сестра, Евгения Николаевна, училась пению, и вот, когда она окончила консерваторию и достигла всего, что могла в этой области, в этот момент колебания и выбора способа новых достижений, встретила она достойного молодого человека и вышла замуж. У нее родился даже маленький Вася, которого она сама кормила и странно, не по-володински привязалась к нему, и была уже накануне полного поглощающего всю ее материнства. Но тут как раз на помощь погибающей явились сестры и стали убеждать ее не губить своих личных способностей к живописи. Они доказывали ей изо дня в день, что и для будущего Васи будет хуже, если мать погубит из-за него свое высшее призвание. Сначала, уступая сестрам, Евгения Николаевна отлучалась только на короткое время в мастерскую, испытывая невероятные мучения и постоянные тревоги за Васю, и, может быть, никогда бы не решилась всецело отдаться искусству, если бы не муж, принявший на себя все заботы материнства: он доходил до того, что сам стирал детские пеленки и часами расхаживал из комнаты в комнату, то забавляя, то убаюкивая ребенка. Мало-помалу увидела мать, что дитя в надежных руках, и все больше и больше отдавалась совершенствованию в живописи. Он качает — она учится. Теперь она уж совершенно победила инстинкт материнства, достигла высокого совершенства в живописи, переходит к скульптуре, мечтает об архитектуре, вечно оживлена, радостно наполненная достижениями. Мы говорим с ней всегда шуточками, быстро перекидываясь с предмета на предмет <4 нрзб.>, но, как и бывало со всеми другими сестрами Володиными, я всегда чувствовал в их существе где-то далеко запрятанную жуткую, замкнутую на ключ комнату, и оттуда, из этой жуткой комнаты, чуть-чуть жутко доносятся звуки цитры их странной тетушки.
Искание начала всех начал: огонь, вода у древних, или личность; у наших марксистов экономическая необходимость, и вдруг переворот: все под влиянием любви, начало всех начал есть я — личность.
«Я — маленький» есть скрупулезная работа разрушения оболочки своего «я», вплоть до настоящего «я», которое есть Я общее, мировое, народное; начинается слияние: разрушены перегородки общественности, логика маленьких целей, начинается странничество — мой собственный путь, земля родная встречает, дает силу и начинает «я» рядиться в новые одежды (литературные) — перерождаться?
Чем отличается мой путь от декадентов: у них нет этого слияния? Подполье?.. Не знаю… (Момент из переписки: я, уничтоженный, доказываю, что я существую и личность неуничтожима, неистребима…) Декаденты, вероятно, литераторы, а я не литератор… У них «я» — бумажный бог.
У Мережковского это «бумажное» существо превращено в «культурное» существо, и вся культура сама превращена в книгу. И в ней, в этой книге, герой Христос. Выходит так, что вот если бы я не мог добиться любви своей страстью и стал бы писать книгу и когда состарился бы, то преподнес бы возлюбленной свою пламенную книгу любви. Так и Мережковский подносит нам своего бумажного Христа.
Приходят к нему хлысты, люди, которые потеряли веру в историческую личность Христа и начали с утверждения личности Христа в себе. Мережковский говорит им об едином Христе. И вся разница между ними — культура: они то же, но без культуры. Бумажный Христос спасает Мережковскому культуру. Спасает его как литератора. (Шалуны).
Не есть «какой-то», а есть «такой», обыкновенный и ничтожный, лежит на диване, курит, читает пустяки, скучает. Есть «ничего» и полное презрение к нему. И вот, когда перевернется на другой бок, иногда шевельнется, что где-то (на Урале, в Италии?) как хорошо! И взял тогда уцепился за «что-то» и поехал туда «бумажно» или по-настоящему. И такая радость, полнота и вера и полное забвение дивану. Тут голубое и в голубом герои и смысл и земля преображенная. И никакой преемственности нет с диваном. А между тем к нему вернешься и нет никакого основания в нем для голубого.
Я вполне понимаю, что нужно принять себя таким, как есть, что в этом надо учиться у негодяев: негодяй силен тем, что он себя признает как реальность, необходимость и сообразно с этим действует и потому он совершенно неистребим (на этом признании неистребимости негодяя основана смертная казнь, как последнее усилие). А вот хороший человек почему-то сомневается в своей хорошести, сомневается, почти что боится того реалиста-негодяя.
Так как же диван? Если признать это существо трупом, то откуда же голубой и что значит этот неуправляемый аэростат? Это голубое небо, которого нет и которое все-таки есть.
Между этими двумя существами есть ли какое-нибудь отношение?
Тоска — это последняя связь. Из тоски все можно понять. Но бывает, что и тоски нет и страха нет, а полное ничто: борода, щеки, механика… я могу представить очень совершенный механический аппарат человека с абонементом в театрах и сложной государственной деятельностью, «по головам ходит» человек и все-таки он механизм (действующий Обломов).
Какая же связь между механическим человеком и голубым? Не вижу связи и удивляюсь. А если нет связи, нужно и вообще, чтобы голубого утвердить так же прочно, как механического, нужно разрушить великую, даже мнимую связь (как у хлыстов): есть закон того и есть закон другого — реалиста голубого и реалиста диванного. (Двойная бухгалтерия.)
Есть люди, которые не хотят упустить последнего, держатся за последнее, как за соломинку, и говорят, что все-таки все хорошо: у них страх исчезновения голубого, у них вера, будто без голубого жить нельзя, и если голубое исчезнет, то они умрут (Дуничка), и потому они твердят неустанно, как молитву Иисусову: к свету! к свету! к свету! Некоторые доходят до великого упрямства и до гроба твердят: к свету! к свету! к свету! Между тем это одно упрямство их, а втайне, по существу, они бессильны остановить ночь.
Необходимо, чтобы утвердиться в сути голубого, нужно как-то вступить сознательно в сферу «диванного», разговаривать с ним, беседовать, советоваться, дать ему полное право на существование и отменить смертную казнь для него не лицемерно (благодушие голубого), а по чистой совести и не то что, а просто поставить даже для него самовар и беседовать…: что тут, разве поможешь этим, что к свету! к свету! когда ночь наступит, то сколько ни зажигай электричество, не добиться голубого неба, рыжее будет, а голубое никак. Если твердить всю ночь «к свету», то, конечно, придет свет, но сам по себе, не будет казаться собственной заслугой, и это было бы очень хорошо, если бы опять не пришла ночь и с нею бессилие и опять тупое: к свету! к свету! Нет, господа, с первыми сумерками разведите-ка самовар, накрывайте скатерти и твердите во все уголки: — Жалуйте, жалуйте! Явятся рогатые и пузатые, не брезгуйте. Это кажется только вначале, в сумерках неприятно, а потом привыкнете… припахнется. Вступите с ними в остроумную беседу и до рассвета пейте, ешьте и веселитесь. А потом, когда начнется голубой день, такая радость охватит всех, какая не известна ни одному защитнику света [68].