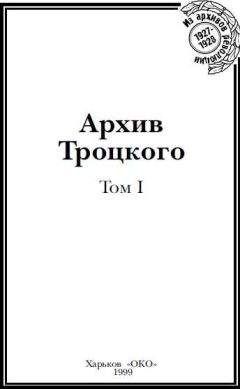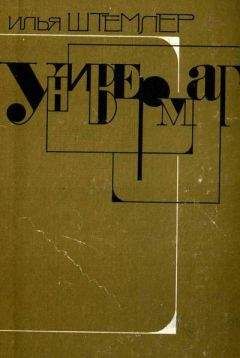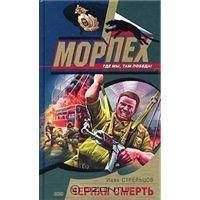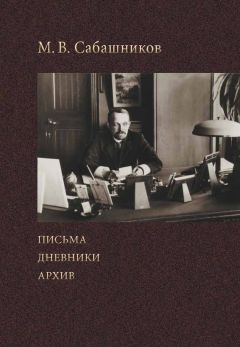Илья Штемлер - Архив
Дубовая дверь малой трапезной, схваченная железными клепаными накладками, точно присела под тяжестью притолоки, сложенной колотым бурым кирпичом. Интересно, какого росточка были послушники бывшего монастыря, если дверь приходилась Колесникову чуть ли не до груди? Ключ оказался на месте. И фонарь этого размазни Брусницына лежал рядом.
— Вы… как вас, простите? — обратился Колесников к Хомякову. — Ефим Степанович? Посветите, если не трудно, — Колесников протянул фонарь и растворил дверь. — Только голову пригните, ушибетесь. — Хомяков принял фонарь и, наклонившись, шагнул в трапезную следом за Колесниковым. Направленный луч апельсиновым рубцом прильнул к поверхности сундука, скользнув дальше, в глубину замшелой комнаты.
— Могли бы и электричество провести, — Хомяков наблюдал, как Колесников отмыкает замок, откидывает крышку сундука.
— Вот бы его отсюда выволочь, — фантазировал Колесников.
— Сундук-то? — уточнил Хомяков. — В дверь не пройдет. Как его сюда пихнули, не пойму.
— Вначале монахи притаранили сундук, а вокруг возвели стены, — пошутил Колесников.
— Только что так, — хмыкнул Хомяков. — А что там? Хлам?
— Хлам. Из-за этого хлама мне такую выволочку устроили, держи картуз, — Колесников уже видел, что бумаги лежали так, как он их оставил, никто сюда не заглядывал. Пожалуй, он сейчас прихватит часть, сложит где-нибудь у себя, разберется. Благо этот Хомяков подвернулся, поможет донести.
Колесников выволок из сундука кипу бумаг, сложил, еще кипу, подравнял к первой, получилась довольно объемистая пачка. Такую же пачку он принялся собирать для Хомякова.
— Вот. И от меня маленькая польза, — проговорил Хомяков поверх бумаг, уложенных по самый подбородок.
— Не споткнитесь, — благодарно ответил Колесников. — Следуйте за мной. Поднесем к лестнице, а там воспользуемся тележкой.
— Тяжелые, черти… Было бы что путное.
— Путное, — переговорил Колесников. — Только я туда сунулся, достаю первый лист — и на тебе! Письмо московского губернатора Обрезкова. Он докладывал о Николае Михайловиче Карамзине. Как тот пишет историю государства Российского, по ночам. А нетерпеливая его супруга велит холопам вести мужа в спальню.
— Что, больше не о чем было докладывать московскому губернатору? — недоверчиво протянул Хомяков.
Они подошли к столику и бухнули бумаги на его пластмассовую спину. Хомяков встряхнул замлевшие руки. Для Колесникова таскание тяжеленных бумаг было привычным занятием. Он с сомнением оглядел оставшиеся одиннадцать дел из фонда Городского физиката. Конечно, хорошо бы подложить уже доставленные документы, прежде чем покинуть хранилище.
— Ладно. Вы вот что, Ефим Степанович, — решил Колесников. — Ждите меня здесь. Я ненадолго. Подложу остатки, на душе будет легче, — он сгреб дела физиката и заторопился к дальним стеллажам, попросив напоследок Хомякова уложить в тележку принесенные из сундука бумаги.
Вскоре тишина хранилища впитала его шаги. Хомяков привалился плечом к холодной магистральной трубе. «Интересно, в этой конторе есть столовая или архивисты куда-нибудь линяют в обеденный перерыв?» — подумалось Ефиму Степановичу Хомякову.
Обычно в это время дня он принимал свою порцию шашлыка, запивая чешским пивом, которое, как правило, таилось в заначке у дяди Кеши, метрдотеля ресторана «Онега», раскинувшего свой стеклянный пейзаж неподалеку от Второй Градской больницы. Там до недавнего времени и трудился Ефим Хомяков, некогда преподаватель истории и вообще личность с весьма заковыристой биографией…
«Пожалуй, здесь и не закуришь», — еще подумалось Хомякову. Он вздохнул и для успокоения томящейся души похлопал ладонями по карману, где лежали сигареты. Чтобы подавить проснувшееся желание, надо отвлечься, и Хомяков принялся укладывать бумаги в пустую тележку. Старые лежалые листы плотно прильнули один к другому, нехотя покоряясь любопытству бывшего преподавателя истории и лаборанта прозекторской Второй Градской больницы.
Лиловые блеклые чернила лениво плели свою едва разборчивую вязь, где совершенно пропадая, а где неожиданно поражая четкой и вполне читаемой фразой. Какие-то справки, просьбы, донесения. Суета далеких лет, скука. И как среди этой преснятины архивисты выуживают интересный материал, непонятно… Ах, будет он еще с ними миндальничать — аккуратно укладывать, ровнять… Побросает в тележку, и вся недолга.
Хомяков с раздражением ухватил чуть ли не всю принесенную им кипу бумаг, занес, но не слишком удачно: пачка накренилась и, скользнув, разваливаясь в падении, упала на пол, оставив в ладонях несколько хилых папок. Ругнувшись, Ефим Степанович швырнул остаток в тележку и тяжело присел на корточки. Сгоряча он принялся закидывать бумаги в тележку, но одумался — листы лопались, заламывались, становились торчком. Влетит ему от Колесникова, это точно. Хомяков принялся сгребать бумаги в пачку, но тут его внимание привлек бесцветный твердый конверт, что выпал из общей кучи. Хомяков подобрал конверт, внутри которого виднелось вложение — несколько полос твердого картона. Он завел в конверт пальцы и выудил содержимое. Полос оказалось пять. К каждой из них прильнула шторка папиросной бумаги. Хомяков откинул шторку и увидел аккуратный ряд подклеенных почтовых марок. Голубого, розоватого и кофейного цветов. На каждой вырисовывался одинаковый женский профиль с короной в высоко зачесанных волосах… Тут же лежал толстый обрез, на котором четкие удлиненные буквы начертали слова: «Сей пакет вручен мне Государем Императором для Хранения в делах канцелярии. Министр Императорского двора, граф Фридерикс».
Хомяков поднял голову, вслушиваясь в стоялую тишину хранилища. Тяжело перевалившись на колени, он спокойно, даже с какой-то медлительной неохотой расстегнул пуговицы полосатой фланелевой рубашки и, оттопырив полу пиджака, уложил пакет с марками за пазуху.
Глава третья
1
Последней, со своей кружкой и свертком, вошла Нина Чемоданова и села в простенке между окнами, под красочным календарем с призывом хранить деньги в сберегательной кассе.
— Явилась наконец, — проворчала заведующая отделом использования Анастасия Алексеевна Шереметьева, пышногрудая особа с прямым армейским затылком, подпирающим короткую стрижку крашеных волос. — В следующий раз ждать тебя не будем.
— Клиент задержал, — оправдывалась Чемоданова. — Дед-краевед.
— Забелин, что ли? — спросила Шурочка Портнова, гостья из отдела хранения.
— Он самый. Александр Емульяныч. Я ему намекаю, обед, дескать. А он — я, Нина Васильевна, клюю два раза в день, не беспокойтесь. — И, спохватившись, Чемоданова округлила глаза в притворном удивлении: — Ты ли это, Шурочка?! Не верю!
— Я, я, — кивнула Портнова. — Сбежала от своей совы. Сказала, что в детский сад надо. А сама к вам, мои родные.
— Правильно сделала, — Шереметьева достала пакет с сушками, банку варенья и что-то еще, завернутое в вощеную бумагу.
— У меня пирожки слоеные, — оповестила Чемоданова.
— С мясом? — спросила Портнова.
— С саго. С мясом не успела, расхватали, — ответила Чемоданова. — Ой, девочки, вчера в филармонии были такие ватрушки. Третий звонок, а я, как дура, жую и жую. Четыре штуки слопала.
— Искусство, Нинка, тебя разорит, — Шереметьева расправила клеенку. — Что слушала? Стоящее? Или опять кто-нибудь из этих?
— Четвертую симфонию Брамса, — нехотя ответила Чемоданова.
— Так и знала. «Брамс — абрамс», — хмыкнула Шереметьева. — Вот куда денежки уходят, мировому сионизму.
— Между прочим, Брамс и вовсе не Абрамс. Его зовут Иоганн, он немец, если на то пошло, — не выдержала Шура Портнова.
— Ладно, ладно. Молчу. Слова уже не скажи, — буркнула Шереметьева. — Поесть не дадут, меломаны… Вот, варенье из малины… Когда наша часть стояла в Закарпатье, муж подружился с одним молдаванином. Ох и пройдоха был. Любому Брамсу сто очков вперед даст.
— Муж? — усмехнулась Чемоданова.
— Тот молдаванин. Егерем служил, охранял охотничьи угодья, областное начальство развлекалось… С тех пор его жена шлет нам варенье. Второй год за это варенье всей семьей летом наезжают. Неделями едят-пьют. Хитрющий народец. А моему ишачку все хороши. Майор Шереметьев, ваше благородие, госпожа удача.
В металлической кружке чай остывал медленно. Чемоданова в нетерпении теребила ручку. Отношения ее с начальницей нельзя было назвать дружескими, и в то же время их связывало неуемное женское любопытство, что ли? Они как бы присматривались друг к другу, точно пытались разгадать загадку. Семейная, вполне благополучная Анастасия Шереметьева, мать двоих детей, и одинокая, неустроенная Нина Чемоданова, казалось, пытались переплести судьбы, дополняя друг друга опытом своих жизней. Чемоданова еще никогда не встречала человека, который бы с такой неуклюжей заинтересованностью относился ко всему, что касалось ее далекой от достатка судьбы. Настыр-ность Шереметьевой ее отпугивала, словно предвосхищала беду…