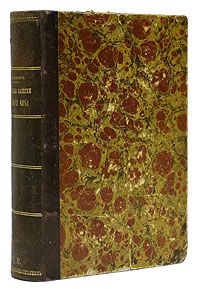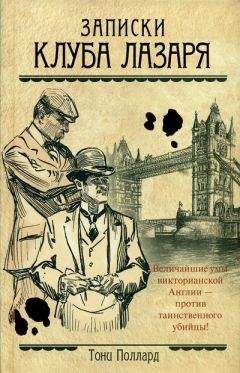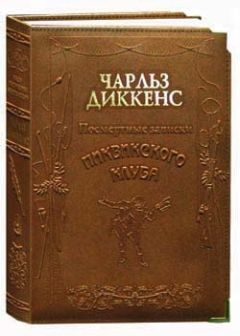Чарльз Диккенс - Замогильные записки Пикквикского клуба
На этой-то особе сосредоточился взгляд мистера Винкеля при входе в комнату президента. Мистер Пикквик спешил рекомендовать:
— Почтенный друг нашего друга. Сегодня мы узнали, что общий друг наш состоит на службе в здешнем театре, хотя он, собственно, не желает приводить это в известность. Почтенный джентльмен принадлежит тоже к обществу актеров. Он собирался рассказать нам маленький анекдот из жизни людей этой профессии.
— Кучу анекдотов! — подхватил зеленофрачный незнакомец вчерашнего дня. Он подошел к мистеру Винкелю и продолжал вполголоса дружеским тоном. — Славный малый… тяжкая профессия… не то чтоб актер… все роды бедствий… горемычный Яша… так мы его прозвали.
Мистер Винкель и мистер Снодграс учтиво раскланялись с «Горемычным Яшей» и, потребовав себе пунша, в подражание членам остальной компании, уселись за общий стол.
— Теперь, стало быть, вы можете рассказать нам свою повесть, — сказал мистер Пикквик. — Мы с удовольствием готовы слушать.
«Горемычный Яша» вынул из кармана грязный сверток бумаги и, обращаясь к мистеру Снодграсу, поспешившему вооружиться записной книгой, — спросил охриплым и басистым голосом:
— Вы поэт?
— Я… Я… немножко: поэзия — мой любимый предмет, — отвечал мистер Снодграс, несколько озадаченный неожиданным вопросом.
— О! Поэзия — то же для жизни, что музыка и свечи для театра: она животворит и просвещает всякого человека, выступающего на сцену жизни. Отнимите у театра его искусственные украшения и лишите жизнь ее фантастических мечтаний: что тогда? Лучше смерть и безмолвная могила.
— Совершенная правда, сэр! — отвечал мистер Снодграс.
— Сидеть перед сценой, за оркестром, — продолжал горемычный джентльмен, — значит то же, что присутствовать на каком-нибудь блестящем параде и наивно удивляться шелковым тканям мишурной толпы; быть на самой сцене — значит принадлежать к действующим лицам, посвятившим свои способности и силы на забаву этой пестрой толпы. Неизвестность, голодная смерть, совершенное забвение — все может случиться с человеком. Такова судьба!
— Истинно так! — проговорил мистер Снодграс.
Так как впалые глаза горемычного джентльмена были исключительно обращены на его лицо, то он считал своей обязанностью сказать что-нибудь в подтверждение его слов.
— Пошевеливайся, что ли! — сказал с нетерпением испанский путешественник. — Раскудахтался, как черноглазая Сусанна… там в переулке… Ободрись и начинай!
— Перед началом не угодно ли еще стаканчик пунша? — спросил мистер Пикквик.
— Не мешает. Вино и поэзия — родные сестры, и я не думаю, чтоб кто-нибудь из людей с джентльменскими наклонностями сомневался в этой истине, утвержденной веками.
Горемычный джентльмен, проглотив залпом полстакана пунша, принялся читать и в то же время рассказывать следующий анекдот, отысканный нами в «Записках клуба» под заглавием:
Повесть кочующего актера.
• • •
Нет ничего чудесного в моей истории, — сказал «Горемычный Яша», — ничего даже необыкновенного не найдет в ней человек, хорошо знакомый с разнообразными явлениями житейской суеты. Болезнь и нищета — обыкновенные спутники человеческой жизни. Я набросал эти строки единственно потому, что лично знал несчастного героя своей незатейливой истории. За несколько лет перед этим я следил за ним шаг за шагом, до тех пор, пока он наконец телом и душой не погрузился в мрачную бездну, откуда уже никогда не мог выбраться на божий свет.
Человек, о котором намерен я говорить, был скромный пантомимный актер и, следовательно, — горький пьяница, как почти всегда бывает у нас с людьми этого разряда. В лучшие дни, прежде чем ослабили его разврат и болезнь, он получал порядочное жалованье и, при воздержной жизни, мог бы, вероятно, получать его еще несколько лет. Говорю несколько, потому что эти люди всего чаще оканчивают свою карьеру ранней смертью или, вследствие неестественного изнурения и возбуждения телесных сил, преждевременно утрачивают те физические способности, на которых единственно основываются их средства к существованию. Как бы то ни было, господствующая его страсть возрастала и усиливалась с такой быстротой, что в скором времени оказалось невозможным употреблять его в тех ролях, где он исключительно был полезен для театра. Трактир имел для него чарующую силу, и никогда не мог он устоять против искушений соблазнительной влаги. Запущенная болезнь и безнадежная нищета, сопровождаемые преждевременной смертью, неизбежно должны были сделаться его уделом, если б он упорно продолжал идти по той же дороге. Однако ж, он действительно шел по ней очертя голову, не оглядываясь назад и не видя ничего впереди. Последствия были ужасны: он очутился без места и без хлеба.
Случалось ли вам видеть, какое полчище оборванных и жалких бедняков принимает участие в театральных представлениях, как только разыгрывается какая-нибудь пантомима или пьеса в восточном вкусе? Это, собственно, не актеры, правильно ангажированные, но балетная толпа, хористы, клоуны, паяцы, которых распускают тотчас же после спектакля до тех пор, пока вновь не окажется нужда в их услугах. К такому-то образу жизни принужден был обратиться мой герой, и скудный заработок при одной ничтожной театральной группе, платившей несколько шиллингов в неделю, доставил ему снова несчастную возможность удовлетворять свою роковую страсть. Но и этот источник скоро иссяк для него: трактирные похождения, принимавшие с каждым днем самый беспорядочный и буйный характер, лишили его скудного заработка, и он буквально доведен был до состояния, близкого к голодной смерти. Изредка только удавалось ему выманить взаймы какую-нибудь безделицу от своих старых товарищей или зашибить копейку в каком-нибудь балагане, и приобретение его, в том и другом случае, немедленно спускалось в кабаке или харчевне.
Около этого времени я был ангажирован на один из второстепенных лондонских театров, и здесь-то опять совершенно неожиданно встретился я с несчастным героем, которого уже давно выпустил из вида; потому что я странствовал по провинциям, а он скрывался в грязных захолустьях Лондона, и никто из нас не знал, чем и как он жил. Окончив свою роль, я переодевался за кулисами и собирался идти домой, как вдруг кто-то ударил меня по плечу. Во всю жизнь не забыть мне отвратительного вида, который встретил мой взор, когда я обернулся назад. То был мой герой, одетый для пантомимы со всей нелепостью клоунского костюма. Фантастические фигуры в „Пляске смерти“, уродливые и странные карикатуры, нарисованные когда-либо на полотне искусным живописцем, никогда не могли представить и вполовину такого ужасного, замогильного лица. Его пухлое тело и дрожащие ноги, — безобразие их во сто раз увеличилось от фантастического костюма, — стеклянные глаза, странно противоречившие толстому слою румян, которыми было испачкано его лицо; трясущаяся голова, карикатурно разукрашенная пестрой шапкой с развевающимися перьями, длинные костлявые руки, натертые и вылощенные мелом — все это сообщало его наружности отвратительный, гадкий и такой неестественно-ужасный вид, о котором я до сих пор не могу и подумать без замирания сердца. Он отвел меня в сторону и начал дрожащим голосом исчислять длинный ряд недугов и лишений, умоляя, как водится, ссудить ему несколько шиллингов на самое короткое время. Получив от меня деньги, он опрометью бросился на сцену, и через минуту я слышал оглушительный смех и дикий рев, которыми сопровождались его первые прыжки и кувырканья.
Через несколько вечеров оборванный мальчишка опустил в мою руку грязный лоскуток бумаги, где было нацарапано несколько слов карандашом, из которых явствовало, что герой мой опасно болен и что он, во имя человеколюбия и дружбы, покорнейше просит меня навестить его после спектакля, в такой-то улице — я забыл ее имя — недалеко, впрочем, от нашего театра. Я велел сказать, что приду, и в самом деле, лишь только опустили занавес, я отправился на свой печальный визит.
Было поздно, потому что я играл в последней пьесе и спектакль вообще тянулся очень долго вследствие бенефиса в пользу главного актера. Была темная холодная ночь. Сырой и пронзительный ветер подгонял к окнам и фасадам домов крупные капли проливного дождя. В глухих и тесных улицах накопились целые лужи, и так как ветер загасил большую часть фонарей, то прогулка сделалась в самой высокой степени неудобной и опасной. К счастью, однако ж, я пошел по прямой дороге, и после некоторых затруднений мне удалось отыскать квартиру моего героя — угольный сарай с надстройкой вроде чердака; в задней комнате этого жилища лежал предмет моего печального визита.
На лестнице встретила меня какая-то женщина — оборванное и жалкое создание, с сальным огарком в руке. Она сказала, что муж ее лежит в забытьи, и, отворив дверь, спешила поставить для меня стул у его постели. Лицо его было обращено к стене, и он не мог заметить моего прихода. От нечего делать я принялся рассматривать место, куда завлекла меня судьба.