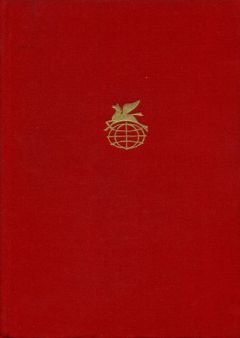Максим Горький - Рассказы. Очерки. Воспоминания. Пьесы
Ты, может, думаешь, что человек в себе волен? Дудки, браток! Расскажи-ка мне, что ты завтра сделаешь? Ерунда! Никак ты не можешь сказать, направо или налево пойдешь завтра. Лежал я и ждал одного, а вышло совсем не то. Совсем несообразное дело вышло!
Вижу: от города идет кто-то — пьяный как будто, шатается, в руках палка. Бормочет что-то; нескладно бормочет и плачет, — всхлипывает… Еще ближе подошел, смотрю — баба! Тьфу тебе, треклятая! Намылю шею, думаю, подойди-ка. А она идет к мосту прямо и вдруг как крикнет: „Милый, за что?!“ Ну, брат, и крикнула! Я так и вздрогнул. „Что за притча?“ — думаю. А она прет прямо на меня. Лежу, прижался к земле, дрожу весь — куда моя злоба девалась! Вот-вот налезет, ногой наступит сейчас! А она опять как завопит: „За что?! за что?!“ — и бух наземь, как стояла, почти рядом со мной. И заревела она тут, братец ты мой, так, что я и сказать тебе не могу — сердце рвалось, слушая. Лежу, однако, ни гугу. А она ревет. Тоска меня взяла. Убегу, думаю себе, прочь! А тут месяц вышел из тучи, да таково ясно и светло, просто страх. Приподнялся я на локоть и глянул на нее… И тут, брат, все и пошло прахом, все мои планы и полетели к чертям! Смотрю — так сердце и екнуло: ма-аленькая девчоночка, дите совсем — беленькая, кудряшки на щечках, глазенки большие такие — смотрят так… и плечики дрожат-дрожат, а из глаз-то слезы крупнущие одна за другой так и бегут, и бегут.
Жалость меня, брат ты мой, забрала. Вот я, значит, и давай кашлять: „Кхе! кхе! кхе!“ Как она крикнет: „Кто это? Кто? Кто тут?!“ Испугалась, значит… Ну, я сейчас тово… на ноги встал и говорю: „Это, мол, я“. — „Кто вы?“ — говорит. А глаза-то у самой во какие сделались, и вся так, как студень, дрожит. „Кто вы?“ — говорит».
Он засмеялся.
«„Кто я-то, мол? Вы прежде всего не бойтесь меня, барышня, — я вам худа не сделаю. Я — так себе человек, из босой команды, мол, я“. Да. Соврал, значит, ей; не говорить же ведь, чудак ты, что я, мол, купца убить залег тут! А она мне в ответ: „Все, говорит, мне равно, я топиться пришла сюда“. И так это она сказала, что меня аж озноб взял — серьезно уж очень, братец ты мой. Ну, что тут делать?»
Емельян сокрушенно развел руками и смотрел на меня, широко и добродушно улыбаясь.
«И вдруг тут, братец ты мой, заговорил я. О чем заговорил — не знаю; но так заговорил, что аж сам себя заслушался; больше все насчет того, что она молодая и такая красавица. А что она красавица, так это уж так, то есть — раскрасавица! Эх ты, брат ты мой! Ну, уж! А звали Лизой. Так вот я, значит, и говорю; а что — кто его знает — что? Сердце говорило. Да! А она все смотрит, серьезно так и пристально, и вдруг как улыбнется!..» — заорал Емельян на всю степь со слезами в голосе и на глазах и потрясая в воздухе сжатыми кулаками.
«Как улыбнулась, так я и растаял; хлоп перед ней на колени: „Барышня, говорю, барышня!“ — и все тут! А она, братец ты мой, взяла меня за голову руками, глядит мне в лицо и улыбается, как на картине; шевелит губами — сказать хочет что-то; а потом осилилась и говорит: „Милый вы мой, вы тоже несчастный, как и я! Да? Скажите, хороший мой!“ Н-да, друг ты мой, вот оно что! Да не все еще, а и поцеловала она меня тут в лоб, брат, — вот как! Чуешь? Ей-богу! Эх ты, голубь! Знаешь, лучше этого у меня в жизни-то за все сорок семь лет ничего не было! А?! То-то! А зачем я пошел? Эх ты, жизнь!..»
Он замолчал, кинув голову на руки. Подавленный странностью рассказа, я молчал и смотрел на море, похожее на чью-то громадную грудь, ровно и глубоко дышавшую в крепком сне.
«Ну, а потом она встает и говорит мне: „Проводите меня домой“. Пошли мы. Я иду — ног под собой не чую, а она мне все рассказывает, как и что. Понимаешь ты, она одна дочь была у родителей, купцы они, — ну, и того, значит, балованная; а потом тут студент приехал и стал, значит, ее там учить, и влюбились они друг в друга. Он потом уехал, а она стала его ждать — как, дескать, кончит там свою науку, чтобы приехать венчаться; уговор у них такой был. А он не приехал, а послал ей письмо: дескать, ты мне не пара. Девке, конечно, обидно. Вот она было и того, значит… Ну, рассказывает она это мне, и дошли мы таким манером с ней до дома, где она жила. „Ну, говорит, голубчик, прощайте! Завтра я, говорит, уеду отсюда. Вам денег, может быть, надо? Скажите, не стесняйтесь“. — „Нет, говорю, барышня, не надо, спасибо вам!“ — „Ну, добрый вы мой, не стесняйтесь, скажите, возьмите!“ — пристает она. А я такой оборванный был, однако говорю: „Не надо, барышня“. Знаешь, брат, как-то не до того было, не до денег. Простились мы с ней. Она так ласково говорит: „Никогда-де я не забуду тебя; совсем, дескать, ты чужой человек, а такой мне…“ Ну, это наплевать», — оборвал Емельян снова, принимаясь закуривать.
«Ушла она. Сел я на скамью у ворот. Грустно мне стало. Ночной сторож идет. „Ты, говорит, чего тут торчишь, али слямзить хочешь чего ни то?“ Крепко эти самые слова взяли меня за сердце! Я его в морду — рраз! Крик, свист… в часть! Ну что ж, в часть так в часть, вали хоть во всю целую — мне все равно; я как двину его снова! Сел на лавочку и бежать не хотел. Ночевал; поутру отпустили. Иду к Павлу Петрову. „Где погуливал?“ — спрашивает, усмехаясь. Поглядел я на него — человек, как и вчера; но как будто что-то новое вижу. Ну, конечно, рассказал ему все, как и что. Слушал он серьезно таково, а потом сказал мне: „Вы, говорит, Емельян Павлыч, — дурак и болван; и не угодно ли, говорит, вам убраться вон!“ — Ну, что ж тут? Али он не прав? Я ушел, и все тут. — Так-то вот было дельце, браток!»
Он замолчал и растянулся на земле, закинув руки под голову и глядя на небо — бархатное и звездное. И кругом все молчало. Шум прибоя стал еще мягче, тише, он долетал до нас слабым, сонным вздохом.
1893Старуха Изергиль[19]
Я слышал эти рассказы под Аккерманом, в Бессарабии, на морском берегу.
Однажды вечером, кончив дневной сбор винограда, партия молдаван, с которой я работал, ушла на берег моря, а я и старуха Изергиль остались под густой тенью виноградных лоз и, лежа на земле, молчали, глядя, как тают в голубой мгле ночи силуэты тех людей, что пошли к морю.
Они шли, пели и смеялись; мужчины — бронзовые, с пышными, черными усами и густыми кудрями до плеч, в коротких куртках и широких шароварах; женщины и девушки — веселые, гибкие, с темно-синими глазами, тоже бронзовые. Их волосы, шелковые и черные, были распущены, ветер, теплый и легкий, играя ими, звякал монетами, вплетенными в них. Ветер тек широкой, ровной волной, но иногда он точно прыгал через что-то невидимое и, рождая сильный порыв, развевал волосы женщин в фантастические гривы, вздымавшиеся вокруг их голов. Это делало женщин странными и сказочными. Они уходили все дальше от нас, а ночь и фантазия одевали их все прекраснее.
Кто-то играл на скрипке… девушка пела мягким контральто, слышался смех…
Воздух был пропитан острым запахом моря и жирными испарениями земли, незадолго до вечера обильно смоченной дождем. Еще и теперь по небу бродили обрывки туч, пышные, странных очертаний и красок, тут — мягкие, как клубы дыма, сизые и пепельно-голубые, там — резкие, как обломки скал, матово-черные или коричневые. Между ними ласково блестели темно-голубые клочки неба, украшенные золотыми крапинками звезд. Все это — звуки и запахи, тучи и люди — было странно красиво и грустно, казалось началом чудной сказки. И все как бы остановилось в своем росте, умирало; шум голосов гас, удаляясь, перерождался в печальные вздохи.
— Что ты не пошел с ними? — кивнув головой, спросила старуха Изергиль.
Время согнуло ее пополам, черные когда-то глаза были тусклы и слезились. Ее сухой голос звучал странно, он хрустел, точно старуха говорила костями.
— Не хочу, — ответил я ей.
— У!.. стариками родитесь вы, русские. Мрачные все, как демоны… Боятся тебя наши девушки… А ведь ты молодой и сильный…
Луна взошла. Ее диск был велик, кроваво-красен, она казалась вышедшей из недр этой степи, которая на своем веку так много поглотила человеческого мяса и выпила крови, отчего, наверное, стала такой жирной и щедрой. На нас упали кружевные тени от листвы, я и старуха покрылись ими, как сетью. По степи, влево от нас, поплыли тени облаков, пропитанные голубым сиянием луны, они стали прозрачней и светлей.
— Смотри, вон идет Ларра!
Я смотрел, куда старуха указывала своей дрожащей рукой с кривыми пальцами, и видел: там плыли тени, их было много, и одна из них, темней и гуще, чем другие, плыла быстрей и ниже сестер, — она падала от клочка облака, которое плыло ближе к земле, чем другие, и скорее, чем они.
— Никого нет там! — сказал я.
— Ты слеп больше меня, старухи. Смотри — вон, темный, бежит степью!
Я посмотрел еще и снова не видел ничего, кроме тени.
— Это тень! Почему ты зовешь ее Ларра?