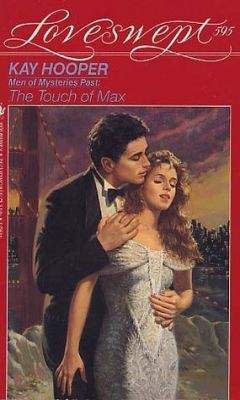Виктор Гюго - Отверженные (Перевод под редакцией А. К. Виноградова )
Епископ не мог удержаться и пробормотал:
— Да! А девяносто третий год?
Ж. приподнялся со стула и с торжественностью умирающего воскликнул:
— А, вот что! Девяносто третий год! Я так и ждал. Но гроза собиралась в течение пятнадцати столетий, к концу столетия она разразилась. Вы преследуете судом удар грома!
Епископ почувствовал некоторое смущение, но не показал этого.
— Судья говорит во имя справедливости, священник — во имя сострадания, — заметил он, — оно-то и есть высшая справедливость. Громовой удар не должен ошибаться.
И, пристально взглянув на Ж., он прибавил:
— А Людовик Семнадцатый.
— Людовик Семнадцатый?.. Кого вы оплакиваете? — спросил Ж., касаясь руки епископа. — Невинного ребенка?.. Тогда я буду плакать с вами. Но если вы оплакиваете сына Людовика Шестнадцатого, то это еще требует размышления. Мне не менее жаль брата Картуша*, неизвестного ребенка, который был повешен только за то, что он был братом Картуша. Повторяю, не менее жаль, чем маленького внука Людовика Пятнадцатого, невинного ребенка, посаженного в Тампль, в тюрьму, только за то, что он имел несчастие быть внуком Людовика Пятнадцатого.
— Мне не нравится, — сказал епископ, — сближение этих имен.
— Картуша и Людовика Семнадцатого?
Оба замолчали. Епископ жалел, что пришел сюда, но вместе с тем он чувствовал какое-то особенное волнение.
— Ах, господин священник, вы не любите грубой правды! — опять начал Ж. — А между тем Христос любил ее. Он веревкой выгнал торгашей из храма. Когда он закричал: «Sinite parvulos…» [2], он не делал различия между детьми. Сударь, простота сама по себе — лучшее украшение, она царственна и так же величественна в лохмотьях, как и в гербовых лилиях.
— Вы правы, — заметил вполголоса епископ.
— Я настаиваю, — продолжал Ж. — Вы мне упомянули о Людовике Семнадцатом. Постараемся понять друг друга. Будете ли вы вместе со мною плакать о несчастных, мучениках, обо всех погибших детях, все равно, которые находятся внизу, как и о тех, которые наверху. Я согласен. Но тогда нужно взять время раньше 1793 года. Я готов плакать с вами о детях сильных мира сего, если вы будете плакать со мною о детях из народа!
— Я оплакиваю всех, — ответил епископ.
Наступило молчание. Ж. первый нарушил его; приподнявшись на локтях и машинально подперев голову, он пристально смотрел на епископа и начал порывисто:
— Да, сударь, народ давно страдает. Я вас не знаю. С тех пор как я живу здесь один за этой оградой, не выходя никуда, никого не видя, кроме этого ребенка, который мне прислуживает, ваше имя доходило и до меня; правда, надо признаться, вас хвалили, но это ничего не доказывает, ловкие люди умеют на разные лады проникать в доверие к простому народу. Кстати, я не слышал стука колес вашей кареты. Вы, наверное, оставили ее за лесом, на повороте дороги. Повторяю, я не знаю вас. Вы мне сказали, что вы епископ, но это не дает мне никакого понятия о вашей нравственной личности. Я опять повторяю вам мой вопрос — кто вы? Вы — епископ, другими словами, вы один из многих князей церкви, которые покрыты золотом, имеют гербы, крупные доходы, — диньское епископство дает пятнадцать тысяч франков, десять тысяч случайных доходов, итого двадцать пять тысяч; один из тех, которые имеют хороший обед, лакеев с ливреями, которые много проживают, по пятницам едят вареных кур, разъезжают в парадных каретах с лакеями, живут во дворцах — и все во имя Христа, который ходил босой. Вы — прелат. Вы пользуетесь рентой, дворцами, лошадьми, лакеями, хорошим столом, всеми чувственными радостями жизни, как и другие, но все это не объясняет мне вашей личности, и вы, наверное, пришли ко мне с намерением поучать меня премудрости. С кем имею честь говорить? Кто вы?
Епископ, опустив голову, сказал:
— Vermis sum [3].
— Земляной червь, разъезжающий в карете! — проворчал умирающий.
Теперь старик был высокомерен, а епископ понизил тон и кротко сказал:
— Хорошо, сударь, но объясните мне: разве моя карета, стоящая там за деревьями, мой хороший стол и куры, которые я ем по пятницам, мои двадцать пять тысяч франков годового дохода, мой дворец, мои лакеи, — разве все это доказывает, что милосердие — не добродетель, что великодушие — не обязанность, что девяносто третий год не ужасен?
Старик провел рукой по лбу.
— Прежде чем отвечать, я прошу вас извинить меня. Я поступил нехорошо. Вы — мой гость. Я должен быть с вами учтив. Вы оспариваете мои идеи, я обязан ограничиваться только возражениями на ваши рассуждения. Ваше богатство и ваши жизненные блага, правда, хорошие аргументы против вас в нашем споре, но я не должен ими пользоваться. Обещаю вам больше их не касаться.
— Благодарю вас, — сказал епископ.
— Вернемся к нашему вопросу, — продолжал Ж. — О чем шла речь? Вы, кажется, мне сказали, что 1793 год был ужасен?
— Да, ужасен. Какого вы мнения о Марате, рукоплескавшем гильотине?
— А что вы думаете о Боссюэ*, певшем «Тебя бога хвалим» по поводу драгонад?
Ответ был резок и достиг цели. Епископ вздрогнул и не нашелся, что ответить, он оскорбился на такое непочтительное отношение к Боссюэ. Самые высшие умы имеют своих кумиров и иногда чувствуют страшную обиду, если другие непочтительно относятся к ним. Умирающий стал между тем задыхаться, удушье прерывало речь, но глаза его по-прежнему были ясны.
— Мне очень хочется еще поговорить немного о том о сем, — снова начал он. — В общем, французская революция — великое гуманитарное движение. Вы находите 1793 год ужасным, но что вы скажете о монархии, сударь? Карьер — разбойник, но как вы назовете Монтревеля? Фукс-Тенвиль бездельник, но каков ваш взгляд на Ламуаньон-Бавилля? Мольяр ужасен, но как вам нравится Соль-Тованн? Отец Дюшен кровожаден, но какой эпитет прибавите вы к отцу Летеллиеру? Журдан-Куп-Тет — чудовище, но меньшее, чем маркиз Лувуа. Я жалею, сударь, Марию-Антуанетту, эрцгерцогиню и королеву, но мне жаль также и ту женщину-гугенотку, которую в 1685 году, во время царствования Людовика Великого, привязали обнаженной до пояса к столбу; на известном расстоянии от нее держали ее грудного голодного ребенка; малютка, оголодав, видя грудь матери, пронзительно кричал, а палач говорил: «Отрекайся!» Женщине-матери-кормилице было предоставлено одно из двух: или голодная смерть ребенка, или смерть совести. Что вы скажете об этих муках Тантала*, примененных к матери? Сударь, запомните это, французская революция имела свои причины. Ее результат — это улучшение мира. Я останавливаюсь. К тому же я умираю. — Взглянув на епископа, умирающий прибавил несколько спокойнее: — Да, грубые проявления прогресса называются переворотами. Когда они окончены, можно усмотреть, что человечество получило жестокий урок, но двинулось вперед.
Умирающий не подозревал, какое впечатление производила его речь на душу епископа, но у преосвященного Бьенвеню оставался еще один последний, самый крепкий довод.
— Прогресс должен верить в Бога. Добро не может иметь неверующих слуг. Безбожник — плохой руководитель народа.
Старый представитель народа ничего не отвечал. Он вздрогнул. Застывшая на глазах слеза затуманила его взор, слеза медленно скатилась по посиневшему лицу; устремляя взгляд свой вдаль, он сказал как бы про себя:
— О ты, о идеал! Ты один существуешь!
Епископ почувствовал необъяснимое волнение.
Немного погодя старик, указав пальцем на небо, сказал:
— Бесконечное существует. Оно там. Если б бесконечное не имело своего «я», то я был бы его пределом. Следовательно, оно существует и имеет свое «я». Это «я» бесконечного и есть Бог.
Умирающий громко и в экстазе произнес эти последние слова, как будто перед ним стояло видение.
Это напряжение подорвало его последние силы: в несколько минут он прожил те немногие оставшиеся, как он говорил раньше, часы. Наступала роковая минута. Епископ понял это: ведь он пришел как священник; с волнением взял он старую морщинистую и похолодевшую руку, взглянул на закрытые глаза и наклонился к умирающему.
— Настал час, принадлежащий Богу. Было бы жаль, если бы мы встретились напрасно.
Умирающий открыл глаза. Лицо его было серьезно и уже как бы подернулось тенью.
— Гражданин епископ, — сказал он медленно, — я провел жизнь в размышлении, в изучении наук и в созерцании. Мне было шестьдесят лет, когда родина призвала меня и приказала мне принять участие в ее целях. Я повиновался. Встречая злоупотребления, я боролся с ними. Встречая тиранию, я разрушал ее. Были права и принципы, которые я исповедовал и проповедовал. Территория была захвачена, я защищал ее, Франция была в опасности, я подставлял свою грудь. Я не был богат, теперь я нищий. Я был одним из властителей государства, погреба ломились от сокровищ, так что пришлось раздвинуть стены, так много было серебра и золота, а я обедал за двадцать два су на улице Арбр-Сек. Я поддерживал угнетенных и облегчал страждущих. Я всегда помогал человечеству идти по пути к свету; иногда ради прогресса я бывал, быть может, жесток, но при случае помогал и своим противникам — вашим друзьям. Существует в Петегеме во Фландрии, где раньше была летняя резиденция меровингов, монастырь аббатства Святой Клары в Болье, который я спас в 1793 году. Я исполнял свой долг по мере сил моих и делал добро, сколько мог. После всего этого меня прогнали, преследовали, очернили, надсмеялись надо мною, надругались, прокляли и выслали. В продолжение многих лет, с поседевшими уже волосами, я знал, что есть люди, которые считают себя вправе презирать меня, что я для бедной невежественной толпы лицо проклятое и живущее в одиночестве, созданном ненавистью. Я не осуждаю никого. Теперь мне уже восемьдесят шесть лет, я умираю. Что вам от меня нужно?