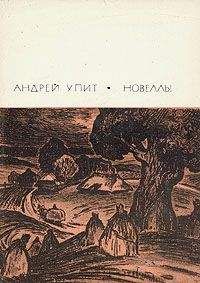Андрей Упит - Последняя капля
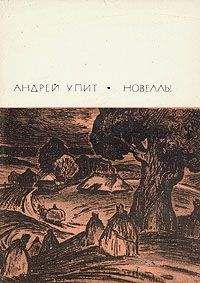
Обзор книги Андрей Упит - Последняя капля
Андрей Упит
ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ
Дверь снова захлопнулась, и оба часовых стали возле нее. Со стула поднялся элегантный молодой человек. По виду ему можно было дать чуть побольше тридцати, хотя лицо у него было желтоватое, глаза усталые, от уголков губ тянулись вниз две глубокие складки. На нем был еще новый смокинг, бархатный жилет цвета ржавчины, модные брюки с отворотами. Только рубашка была без воротничка, и это придавало молодому человеку комический вид.
Он поклонился толстому мужчине, который мелкими неуверенными шажками приближался к столу.
— С кем имею честь?
Вошедший против своей воли поклонился еще ниже.
— Падрони. Мак Падрони из «Чикаго трибюн».
Заключенный приложил ладонь к левому уху.
— Пад… Как вы сказали? Падрони? Странное имя. Вы, вероятно, не американец?
— Нет, я американец, но мои предки в начале девятнадцатого века иммигрировали в Америку из Италии.
— Ага, я так и подумал. Пожалуйста, присаживайтесь, мистер Падрони. — Он продолжал стоять, даже когда репортер, нерешительно оглянувшись на часовых, присел к столу.
— Имя мое вы знаете: Уитмор — Джордж Уитмор. Фотографию мою тоже, вероятно, видели, ее теперь печатают во всех иллюстрированных журналах. Периодическая печать мне, к сожалению, недоступна: тюремный устав не разрешает.
Теперь и он сел, удобно вытянув ноги под столом, и достал записную книжечку с серебряным карандашом на ленточке.
— Минуточку… Извините меня, но я обычно записываю. Сорок шесть… Значит, вы сорок седьмой за две недели. Падрони? Действительно странная фамилия. Я ведь и сам немного говорю по-итальянски.
Церемония записывания была окончена. Уитмор вставил в глаз монокль. Падрони показалось, что этот глаз иронически смотрит на него. Но хозяин камеры не дал ему окончательно смутиться. Уставившись стеклышком в окно, он задумчиво заговорил:
— Значит, и вы из иммигрантов. Должен признаться, я всегда был против законов, ограничивающих въезд в нашу страну. Америка имеет тенденцию пересыхать, как река, берущая начало в вырубленных горных лесах. Вы, иммигранты, быстро американизируетесь экономически, политически и психологически и сохраняете необходимые Америке свойства, которые в нас самих исчезают с угрожающей быстротой.
Падрони попытался улыбнуться.
— Ну, что вы, мистер Уитмор… Не хотите же вы унижать свою нацию?
Уитмор покачал головой. Его голос стал вялым, словно его мучил легкий сплин.
— Я просто констатирую давно известный факт. Признание — первый шаг к исправлению… Взять, например, вас. Ваш предок, по всей вероятности, приехал сюда, будучи простым рабочим. Как пролетарий низшей категории и «гринер»,[1] он, вероятно, мучился в джунглях Чикаго, которые весьма выразительно, хотя и несколько преувеличивая факты, описал Синклер[2]. Теперь возьмем вас. Вы репортер большой газеты. Ваша жена, конечно, коренная американка, и дети говорят только по-английски. У вас собственный автомобиль, домик на окраине города, акции, и вы твердо надеетесь через год или полтора стать редактором и совладельцем газеты.
Заметив, что Падрони заерзал на стуле, Уитмор поспешил прервать свои философские рассуждения.
— Простите, я не собирался вмешиваться в вашу личную жизнь. Но мне приятно сознавать, что эту дальнюю поездку вы предприняли не только по поручению своей газеты, но отчасти из личного интереса. Вам захотелось посмотреть на человека, который совершенно сознательно отказался от всего такого, что вы считаете целью существования, отказался для того, чтобы стать бандитом и кончить жизнь на электрическом стуле. Это в известной мере сближает нас в чисто человеческом плане. Я готов служить вам, тем более что это мне ничего не стоит. Пожалуйста, задавайте вопросы.
Видя, что репортер замешкался, он сам пришел ему на помощь.
— В общих чертах моя биография вам, конечно, известна?
— Да. Но это лишь цепь голых фактов. Я очень прошу вас: не откажите в любезности рассказать, что, собственно, толкнуло вас на этот путь…
— …который ведет в тюрьму и на виселицу? Я заранее знал, что вы об этом спросите. Вас интересует социальная и психологическая сторона вопроса. Но с чего, собственно, начинать? Уточните, пожалуйста, свои вопросы.
Падрони незаметно заглянул в маленькую записную книжку, зажатую в горсти.
— Рассказывают, что вы уже в десятилетнем возрасте проявляли склонность к… к своей будущей профессии.
— А, вы хотите с самого начала! Ну, да все равно. В таком случае вам следовало бы знать, что начало лежит далеко за пределами этих десяти лет и за пределами меня самого. Пожалуй, следует начать с легенды о моем прадеде, который в течение многих лет был наемником в армии мексиканского генерала-грабителя. Его старшие сыновья занимались тем же, а может быть, кое-чем и похуже. Младший, отец моего отца, был фермером, золотоискателем, моряком, коммерсантом, владельцем судна, постоянно привлекавшего усиленное внимание таможенной охраны, а затем главой солидной торговой фирмы, которая кончила свое существование не очень солидным образом и тем не менее послужила прочным фундаментом коммерческой карьеры моего родителя. Но все это вам известно.
— Какой-то грязный бульварный листок распустил слух, будто мать вашей матушки была хозяйкой не весьма приличного заведения.
— Слышал, слышал. Думаю, что пресса немного обидела эту почтенную женщину. Достоверно лишь то, что происходила она из какого-то смешанного англо-индейского рода. С двенадцати до девятнадцати лет она занималась тем, что облегчала последние годы жизни разбитому параличом банкиру, потом танцевала в каком-то нью-йоркском кабачке и, наконец, стала хозяйкой известной на весь порт гостиницы. Простите, — о собственной матушке я не скажу ничего плохого. Когда я ближе познакомился с ней, она уже была в том возрасте, когда жены миллионеров начинают красить себе волосы и занимаются филантропией. Днем она разъезжала по разным благотворительным заведениям, а по вечерам играла в шахматы с управляющим автомобильным заводом отца, с тем самым, — помните? — который потом был отравлен при самых таинственных обстоятельствах в собственной квартире. Это случилось, по-моему, в то время, когда мать переехала на нашу старую виллу в Сан-Франциско.
Право, о своих родителях я, пожалуй, больше ничего не могу сказать, у меня не было возможности познакомиться с ними поближе. Отца я видел иногда утром в воскресенье и то в течение нескольких минут. К матери меня водили два раза в неделю — по вторникам и четвергам. Остальное время я проводил один или в обществе воспитательницы.
Моя воспитательница была не то гречанка, не то андалузка — словом, из породы черноволосых европейцев. Но не это главное. Главное то, что у нее были блестящие, как у черной кошки, глаза и такие длинные пальцы, что я на один ее палец надевал по двенадцать колец матери. На них же я учился целовать матери руку. Андалузкины методы воспитания были хороши, очень хороши. Но в один прекрасный день ее выгнали и на ее место взяли старую француженку. Она была мне так же противна, как жабы, которых я находил под кустами роз в нашем парке. Я их преследовал целыми часами. Бросал в них камнями и бил хлыстиком, пока они не вытягивались замертво вверх желтым брюхом.
У меня была отдельная спальня на втором этаже, а с того времени, как я начал выводить в тетрадке палочки и кружочки, — и свой кабинет. Часов в одиннадцать — сразу после завтрака — приходил патер, преподававший мне катехизис. Должен вам сказать, что мы католики. Потом учитель математики, учителя иностранных языков, учитель музыки. С пяти до шести один отставной офицер обучал меня военной гимнастике, другой — стрельбе из револьвера и фехтованию. Кроме того, мне преподавали пластику и хорошие манеры. В парке был устроен бассейн, где я учился плаванию. У меня были два пони для катания верхом по аллеям парка.
Учителей я терпеть не мог, за исключением преподавателя классических языков. Он не надоедал мне книгами, зато делал бумажных голубей и учил запускать их. А иногда даже позволял мне затянуться из своей трубки. Жаль, что впоследствии мне не удалось встретить этого славного человека. Я думаю, он давно умер — ему и тогда было лет пятьдесят, и лоб у него был покрыт такими глубокими морщинами, что в них легко укладывался мой карандаш.
О детских годах, проведенных в нашей летней резиденции, у меня остались самые мрачные воспоминания. Оба этажа дома я излазил вдоль и поперек. Парк был небольшой, и добраться незамеченным до будки привратника было почти невозможно. С того раза, как я, пробуя новый револьвер, поцарапал дочке привратника щеку, меня стали охранять, как заключенного, — не хуже, чем здесь. Однажды я незаметно пробрался в кухню и отвернул все газовые краны. До сих пор не могу понять, как это не произошел взрыв, которого я так ждал. В другой раз я одетым влез в бассейн, потом прошелся по всем цветочным клумбам и выпачкал ногами ковер, стоивший столько денег, что я и счесть еще не мог. Бывало, я не успею ноги спустить с кровати, и уже начинаю смертельно скучать. Мне надоело и опротивело каждое лицо, каждая вещь в доме. Я возненавидел всех окружающих.