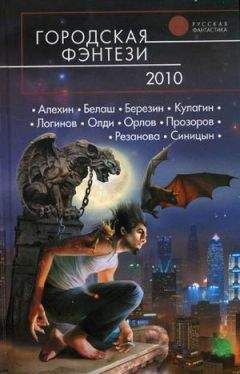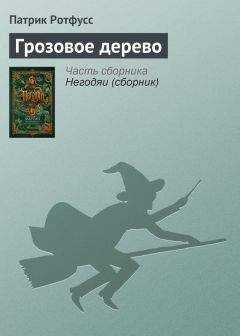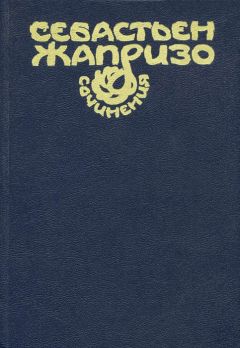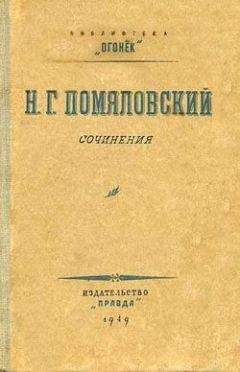Ги Мопассан - Калека

Обзор книги Ги Мопассан - Калека
Ги де Мопассан
Калека
Это случилось со мною примерно в 1882 году.
Я только что сел в купе пустого вагона и закрыл дверь, надеясь, что останусь один, когда внезапно дверь снова открылась, и я услышал чей-то голос:
— Осторожнее, сударь, тут как раз скрещиваются пути, а ступенька очень высокая.
Другой голос отозвался:
— Не бойся, Лоран, я возьмусь за поручни.
Показалась голова в котелке и две руки; уцепившись за кожаные с сукном поручни, они медленно подтянули толстое туловище, а ноги, попав на ступеньки, стукнули, словно палка, ударившаяся о камень.
Когда человек втащил в купе свое туловище, я увидел обвисшую штанину, из которой торчал черный кончик деревянной ноги; вскоре последовала и вторая деревяшка.
За пассажиром показалась чья-то голова.
— Удобно вам здесь, сударь?
— Да, мой друг.
— Ну так вот ваши свертки и костыли.
В вагон поднялся слуга, похожий на отставного солдата; в руках у него была целая охапка свертков в черной и желтой бумаге, тщательно завязанных. Один за другим он положил свертки в сетку над головой хозяина и сказал:
— Все здесь, сударь. Пять мест: конфеты, кукла, барабан, ружье и паштет из гусиной печенки.
— Отлично, дружок.
— Счастливого пути, сударь!
— Спасибо, Лоран. Будь здоров!
Слуга ушел, закрыв за собой дверь, и я взглянул на своего соседа.
Это был человек лет тридцати пяти, хотя почти уже седой, с орденом, усатый и очень толстый; он отличался той особой болезненной тучностью, которой всегда страдают сильные и энергичные люди, если какое-нибудь несчастье обрекло их на неподвижность.
Он отер лоб, перевел дух и спросил, глядя мне прямо в лицо:
— Куренье вам не помешает, сударь?
— Нет.
Этот взгляд, голос, лицо были мне знакомы. Но где, когда я его видел? Да, конечно, я встречал этого человека, говорил с ним, жал ему руку. Это было давно, очень давно и терялось в том тумане, где память, словно ощупью, ищет воспоминания и гонится за ними, как за ускользающими призраками, не в силах схватить их.
Он тоже рассматривал меня пристальным, неподвижным взглядом, как человек, который что-то припоминает, но не может вспомнить до конца.
Эти настойчивые перекрестные взгляды смутили нас обоих, и мы отвели друг от друга глаза; однако через несколько секунд, повинуясь смутному, но властному велению ищущей памяти, взгляды наши встретились снова, и я сказал:
— Боже мой! Чем битый час разглядывать друг друга украдкой, давайте лучше припомним вместе, где мы встречались.
Сосед с готовностью отвечал:
— Вы совершенно правы.
Я назвал себя:
— Меня зовут Анри Бонклер: я чиновник судебного ведомства.
Он поколебался, а затем проговорил с той неуверенностью во взгляде и голосе, которая бывает вызвана большим напряжением памяти:
— Ах, совершенно верно! Я встречал вас у Пуанселей... Тогда еще, до войны[1], двенадцать лет назад!
— Да, сударь! А... а вы лейтенант Ревальер?
— Да... Я даже стал капитаном Ревальером к тому времени, как лишился лог... Обе оторвало одним ядром.
И тут, возобновив знакомство, мы опять взглянули друг на друга.
Я прекрасно помнил этого красивого худощавого молодого человека, дирижировавшего котильонами с таким изяществом и воодушевлением, что его, помнится, прозвали «Смерчем». Но за этим образом, отчетливо всплывшим в памяти, витало еще что-то неуловимое, какая-то история, которую я знал и забыл, одна из тех историй, какие выслушиваются с мимолетным и благожелательным вниманием и оставляют в нас почти неощутимый след.
История была любовная. В глубине моей памяти сохранилось какое-то смутное впечатление, похожее на запах, который чует охотничья собака, рыща на том месте, где побывала дичь.
Однако мало-помалу туман стал проясняться, и перед моими глазами всплыло лицо девушки. Потом внезапно, как взрыв ракеты, в ушах прозвучала фамилия: мадмуазель де Мандаль. И тогда я вспомнил все. Это была действительно любовная история, но самая банальная. Когда я встречался с этим молодым человеком, девушка была влюблена в него и шли толки о близкой свадьбе. Он тоже казался очень увлеченным, очень счастливым.
Я поднял глаза к сетке, где вздрагивали от толчков поезда свертки, принесенные слугой соседа, и голос слуги снова раздался в моих ушах, как будто бы он еще не смолк.
Он сказал:
«Все здесь, сударь. Пять мест: конфеты, кукла, барабан, ружье и паштет из гусиной печенки».
Тогда у меня в голове мгновенно возник и развернулся весь роман. Он похож был на все читанные мной романы, где жених или невеста вступает в брак со своей нареченной и нареченным, несмотря на физическую или денежную катастрофу. Итак, после конца кампании этот искалеченный на войне офицер вернулся к помолвленной с ним девушке, и она, верная своему обещанию, вышла за него замуж.
Мне казалось, что это прекрасно, но банально: так кажутся банальными все жертвы и развязки в книгах или в театре. Когда читаешь или слышишь о таких примерах великодушия и благородства, думается, что и сам можешь принести себя в жертву с восторженной радостью, в великодушном порыве. А на другой день, когда приятель, у которого плохи дела, попросит денег взаймы, приходишь в очень скверное расположение духа.
Но вдруг первоначальное мое предположение сменилось новым, менее поэтичным, но более жизненным. Может быть, они поженились еще до войны, до этого ужасного несчастья с ядром, оторвавшим ему ноги, и ей, безутешной, но покорной, пришлось принять, окружить заботами, утешать и поддерживать мужа, уехавшего красивым и сильным, а вернувшегося безногим, жалким обломком человека, обреченным на неподвижность, на вспышки бессильной злобы и неизбежную тучность.
Счастлив он или страдает? Меня охватило сначала еле ощутимое, потом все растущее и наконец непреодолимое желание узнать его историю, хотя бы главнейшие ее вехи, по которым я угадал бы то, чего он не может или не захочет сказать сам.
Разговаривая с ним, я продолжал думать об этом. Мы обменялись несколькими обыденными фразами; я взглянул на сетку для вещей и стал соображать: «У него, очевидно, трое детей: конфеты он везет жене, куклу — дочурке, барабан и ружье — сыновьям, а паштет из гусиной печенки — себе».
Я спросил его:
— У вас есть дети?
— Нет, — ответил он.
Я смутился, как будто совершил большую бестактность.
— Простите меня, — сказал я. — Мне пришло это в голову, когда ваш слуга говорил об игрушках. Ведь иной раз слышишь, не слушая, и делаешь выводы, сам того не сознавая.
Он улыбнулся, потом проговорил:
— Нет, я даже не женат. Дальше жениховства я не пошел.
Я сделал вид, будто внезапно что-то вспомнил:
— Ах!.. Правда, вы ведь были помолвлены, когда я вас знал. Помолвлены, если не ошибаюсь, с мадмуазель де Мандаль.
— Да, сударь, у вас превосходная память.
Я рискнул пойти еще дальше и прибавил:
— Да, помнится, я слышал также, что мадмуазель де Мандаль вышла замуж за господина... господина... Он спокойно произнес фамилию:
— За господина де Флереля.
— Вот-вот! Да... Теперь я даже припоминаю, что по этому поводу узнал и о вашем ранении.
Я взглянул ему в глаза — он покраснел.
Его полное, пухлое лицо, багровое от постоянных приливов крови, побагровело еще сильнее.
Он отвечал с живостью, с внезапным пылом человека, защищающего дело, которое проиграно давно, проиграно в его глазах и сердце, но которое он хочет выиграть в чужом мнении:
— Совершенно напрасно имя госпожи де Флерель произносится рядом с моим. Когда я вернулся с войны — увы, без ног! — я ни за что, никогда не согласился бы, чтобы она стала моей женой. Разве это возможно? В брак, сударь, вступают не для того, чтобы демонстрировать свое великодушие! Это делают для того, чтобы жить вместе каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду. И если человек представляет собой, как я, например, бесформенную массу, то выйти за него замуж — значит обречь себя на мучение, которое кончится только со смертью! О, я понимаю, я восхищаюсь всякими жертвами, всяким самоотвержением, если они имеют какой-то предел, но не могу же я допустить, чтобы в угоду восторгам галерки женщина пожертвовала всей своей жизнью, всеми надеждами на счастье, всеми радостями, всеми мечтами! Когда я слышу, как мои деревяшки и костыли стучат по полу у меня в комнате, когда я при каждом своем шаге слышу этот мельничный грохот, я так раздражаюсь, что готов задушить слугу. Как вы думаете, допустимо ли предложить женщине терпеть то, что не выносишь сам? И потом, как вам кажется, очень красивы мои деревяшки?
Он замолк. Что можно было сказать? Я видел, что он прав. Мог ли я ее порицать, презирать или хотя бы считать неправой? Нет. И все же... Развязка, согласная с общим правилом, с обыденностью, с реальностью, с правдоподобием, не удовлетворяла моим поэтическим запросам. Обрубки героя взывали о прекрасной жертве. Мне ее не хватало, и я был разочарован.