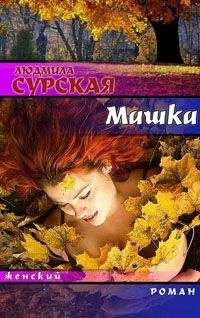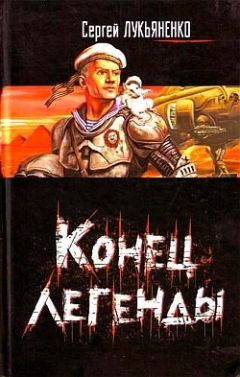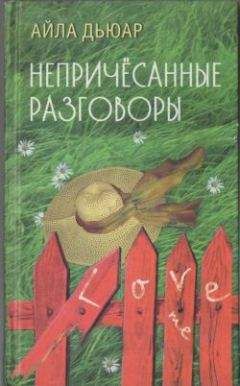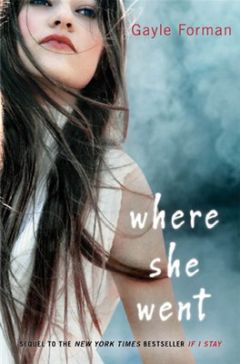Ги Мопассан - Весною
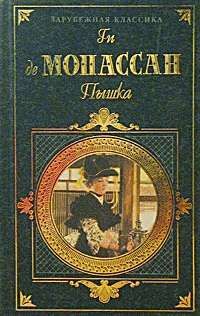
Обзор книги Ги Мопассан - Весною
Ги де Мопассан
Весною
Когда наступают первые погожие дни, когда земля пробуждается, начиная вновь зеленеть, когда душистый, теплый воздух ласкает нам кожу, вливаясь в грудь и словно проникая до самого сердца, в нас просыпается смутная жажда бесконечного счастья, желание бегать, идти куда глаза глядят, искать приключений, упиваться весной.
Минувшая зима была очень суровой, а потому эта потребность обновления и расцвета овладела мною в мае, как хмель; я чувствовал прилив сил, бьющих через край.
Проснувшись однажды поутру, я увидал в окно над соседними домами бесконечный голубой покров небес, залитый пламенем солнца. Канарейки в подвешенных к окнам клетках щебетали, надсаживая горло; горничные во всех этажах распевали песни; с улицы подымался веселый гул. Я вышел в праздничном настроении, чтобы пойти, куда вздумается.
Встречные прохожие улыбались; всюду в теплом сиянии вернувшейся весны носилось словно дуновение счастья. Казалось, над городом веял легкий ветерок любви; молодые женщины проходили мимо меня в утренних туалетах, с какою-то затаенной нежностью во взглядах, с более мягкой грацией в походке, и мое сердце переполнялось волнением.
Сам не зная как и почему, я очутился на берегу Сены. Пароходы быстро неслись по направлению к Сюрену, и во мне пробудилось непреодолимое желание погулять по лесу.
Палуба речного пароходика была полна пассажиров. Ведь первый солнечный день побуждает людей против воли выйти из дому, побуждает их двигаться, ходить взад и вперед, заговаривать с соседями.
Сидевшая рядом со мной молодая особа, по-видимому, работница, обладала чисто парижской грацией. У нее была прелестная белокурая головка с вьющимися на висках волосами, словно с завитыми лучами солнца; эти волосы спускались за ушами, сбегая до затылка, развевались по ветру, а ниже превращались в пушок, такой тонкий, легкий, золотистый, что его едва можно было различить; он возбуждал неудержимое желание осыпать его бесконечными поцелуями.
Под влиянием моего пристального взгляда она повернула ко мне голову, потом опустила глаза; легкая складка, зарождающаяся улыбка, чуть углубила уголки ее рта, и здесь оказался тот же шелковистый и светлый пушок, чуть позолоченный солнцем.
Спокойная река постепенно расширялась. В воздухе разлита была теплая тишина. Соседка подняла глаза и, так как я продолжал на нее глядеть, теперь уже улыбнулась открыто. Она была очаровательна, и в ее ускользающем взгляде я уловил множество вещей, дотоле мне неизвестных. Я увидел в нем неведомые глубины, очарование нежности, всю ту поэзию, о которой мы мечтаем, все счастье, которого ищем неустанно. И мной овладело безумное желание раскрыть объятия и унести ее куда-нибудь, чтобы наедине шептать ей на ухо сладкую мелодию слов любви.
Я уже собирался заговорить с нею, но кто-то тронул меня за плечо. Я с удивлением обернулся и увидел незнакомого мне мужчину самой заурядной внешности, ни старого, ни молодого, глядевшего на меня с грустным видом.
– Мне хотелось бы сказать вам кое-что, – промолвил он.
Я сделал гримасу, которую он, вероятно, заметил, потому что добавил:
– Это очень важно.
Я встал и последовал за ним на противоположный конец парохода.
– Сударь, – начал он, – когда наступает зима с холодами, дождем и снегом, доктор ежедневно повторяет вам: «Держите ноги в тепле, остерегайтесь простуды, насморка, бронхита, плеврита». И вы принимаете целый ряд предосторожностей: вы носите фуфайки, теплые пальто, ботинки на толстой подошве, хотя это и не всегда избавляет вас от двухмесячного пребывания в постели. Когда же наступает весна с ее зеленью и цветами, с ее теплым, расслабляющим ветром, с испарениями полей, вливающими в нас смутное волнение, беспричинную умиленность, – в эту пору не найдется никого, кто бы сказал вам: «Берегитесь любви, сударь! Она повсюду притаилась в засаде, она подстерегает вас на каждом углу; ее силки расставлены, оружие отточено, козни приготовлены. Остерегайтесь любви!.. Остерегайтесь любви! Она гораздо опаснее всех насморков, бронхитов, плевритов! Она не дает пощады и толкает всех на непоправимые безумства». Да, сударь, я заявляю, что правительству следовало бы ежегодно вывешивать на стенах большие афиши с такими словами: «Возвращение весны. Граждане Франции, берегитесь любви!» – точь-в-точь как пишут на дверях домов: «Берегитесь, окрашено!» Ну, а так как правительство этого не делает, то я вместо него говорю вам: берегитесь любви! Она готова подловить вас, и мой долг вас предостеречь, как в России предостерегают прохожего, у которого начинает замерзать нос.
Я стоял в полном недоумении перед этим странным субъектом, а затем ответил ему с видом оскорбленного достоинства:
– Знаете, сударь, мне кажется, что вы вмешиваетесь в то, что вас совсем не касается.
Он сделал резкое движение и отвечал:
– Ах, сударь, сударь! Когда я вижу, что человек тонет в опасном месте, неужели же я должен дать ему погибнуть? Да вот, выслушайте мою историю, и вы поймете, почему я позволил себе с вами заговорить.
Это случилось в прошлом году, приблизительно в такое же время. Но сперва я должен вам сказать, сударь, что служу в Морском министерстве, где наши начальники, флотские чиновники, слишком уж принимают всерьез свои галуны офицеров от пера и чернильницы и потому обращаются с нашим братом, как с марсовыми матросами. Ах, если бы все начальники были штатскими! Впрочем, я уклоняюсь в сторону. Из окна моего отдела я видел маленький уголок синего-пресинего неба; по нему проносились ласточки, и у меня являлось желание пуститься в пляс среди своих черных папок.
Жажда свободы до такой степени овладела мною, что, преодолевая отвращение, я направился к своей обезьяне. То был маленький злющий старикашка, вечно раздраженный. Я сказался больным. Он взглянул на меня и крикнул:
– Я вам не верю, сударь; впрочем, можете убираться! Неужели вы воображаете, что какой-нибудь отдел может работать с чиновниками вроде вас?
Однако я улетучился и дошел до Сены. Была такая же погода, как сегодня; я сел на пароходик и решил прокатиться до Сен-Клу.
Ах, сударь! Уж лучше бы начальник не дал мне разрешения уйти!
Я словно оживал под лучами солнца. Все умиляло меня: и пароход, и река, и деревья, и дома, и мои соседи – словом, все. Мне так и хотелось кого-нибудь поцеловать, все равно кого: любовь готовила мне свой капкан.
У Трокадеро на пароход взошла девушка с небольшим свертком в руке и села против меня.
Она была хорошенькая, о да, сударь; но удивительно, до чего женщины кажутся вам лучше в хорошую погоду, ранней весной; в них есть что-то пьянящее, какая-то прелесть, что-то такое особенное, чего я не сумею вам выразить. Это как вино, когда его пьешь после сыра.
Я смотрел на нее, и она поглядывала на меня, но лишь время от времени, точь-в-точь как сейчас ваша соседка. Мы долго таким образом переглядывались, и мне показалось, что мы уже достаточно знакомы, чтобы завязать беседу. Я заговорил с нею. Она ответила. Она была чрезвычайно мила, безусловно мила. Я, сударь мой, прямо-таки пьянел от нее!
Она сошла в Сен-Клу, и я последовал за ней. Она шла сдать заказ. Когда она появилась снова, пароход только что отчалил. Я пошел рядом с нею; мягкость воздуха заставляла нас обоих глубоко вздыхать.
– Как хорошо теперь в лесу! – сказал я ей.
Она отвечала:
– О да!
– Не хотите ли пройтись по лесу, мадемуазель?
Она окинула меня быстрым взглядом исподлобья, словно определяя мне цену, и после минутного колебания согласилась. Под листвой, еще жидковатой, высокая, густая, ярко-зеленая, как бы покрытая лаком трава была залита солнечным светом и кишела маленькими букашками, и они тоже любили друг друга. Повсюду раздавалось пение птиц. Спутница моя пустилась бежать, прыгая, резвясь, опьяненная воздухом и ароматом полей. А я бежал за нею и тоже прыгал, как она. До чего порою бываешь глуп, сударь!
Потом она принялась во всю глотку распевать оперные арии, песню Мюзетты[1]! Какой поэтичной тогда мне казалась эта песня Мюзетты!.. Я готов был расплакаться. О, вот эта-то вся ерунда и кружит нам голову; послушайте меня, никогда не сходитесь с женщиной, которая распевает в поле, особенно если она поет песню Мюзетты!
Скоро она устала и села на зеленый откос. Я уселся у ее ног, взял ее ручки, маленькие ручки, испещренные уколами иголки, и это растрогало меня. Я говорил себе: «Вот они, святые знаки труда!» Ах, сударь, сударь! Знаете ли вы, что означают эти святые знаки труда? Они говорят о всех сплетнях мастерской, о нашептываемых на ухо непристойностях, о душе, замаранной похабными рассказами, об утраченной девственности, о дурацких пересудах, о вульгарности каждодневных привычек, о всей узости представлений, свойственных женщинам из простонародья и царящих в голове тех, кто на кончиках пальцев носит эти священные знаки труда.