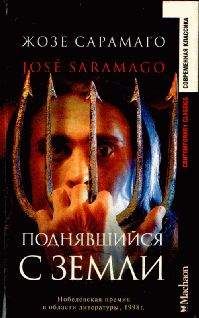Стефан Жеромский - Забвение
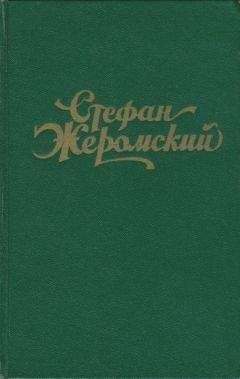
Обзор книги Стефан Жеромский - Забвение
Мы предупредили лесника Лялевича, что на следующий день придем к нему до рассвета, чтобы он повел нас на озеро, к известному только ему болотистому лужку, где водились молодые утки.
Сказано — сделано. Пришлось встать во втором часу ночи, натянуть охотничьи сапоги и идти. И вот мы шагаем с паном Альфредом, покуриваем папиросы и лениво переговариваемся… Мы идем по тропинке, бегущей через хлеба. Колосья отцветшей ржи, отягощенные крупными каплями росы, почти касаются наших лиц. С наслаждением проводишь по ним рукой и позволяешь хлестать себя по лицу. Пахнет хлебами…
Порою с Вислы тянет не ветром, а крепким холодом, словно влажным дыханием окутанной ночью земли. Оно не колышет стену хлебов, а только гладит колосья, словно целует их, касаясь губами. Лениво, сквозь сон, они трутся один о другой, и легкий шорох пробегает по нивам. Капли росы слетают с чешуек колосьев, падают на омытые от пыли коленья стеблей и висят там до рассвета. Издалека, из ольховых рощ над рекой, долетает соловьиная песня. Нежные призывы: приди, приди, приди! — летят над полями и, никем не услышанные, молкнут в траве. Наступает долгая тишина, пока не вырвется вдруг из нее стаккато восторженной, нежной и упоительно страстной любовной песни. Но и она умолкает в далеких покрытых росою полях… Тогда молчаливые ольхи внимают порывистым, радостным переливам, похожим на звуки поцелуев. Однако нам недосуг слушать Шопена ольховой рощи.
Мы идем уже по широким лугам. Над лесом чуть-чуть светлеет, ночная тьма еще не рассеивается, но уже начинает редеть. Кажется, будто там гаснут отблески пастушьего костра. Вокруг нас еще так темно, что мы еле видим Пука, нашу легавую, бегущую в двух шагах впереди нас. По высокой траве мы подходим к лесу и, спотыкаясь о кротовины и кустики можжевельника, шагаем по опушке его, поросшей вереском. В лугах перекликаются коростели, где‑то вдали отвечает им первая перепелка, и мелодичный ее голос будит эхо в лесу. Как‑то веселее идти в темноте под ее призывы: жать иди, жать иди!..
Словно вода в час прилива, набегают из леса и обтекают нас студеные волны холода, напоенные запахом земляники, можжевельника, сосновой смолы, молодых ив, неописуемым, влажным, густым и душным, но здоровым запахом леса, окутанного утренней мглой. Так пахнет букет лесных цветов.
Но вот сквозь ветви сосен начинает проступать бледно — голубой свод неба. Кажется, что лес наполняется прозрачным эфиром. Неподвижно, устало, будто в истоме, склонились к земле ветви сосен. Очертания толстых, словно одетых в рыжие сермяги, стволов уже вырисовываются во мраке, но еще таятся в темной его синеве, словно рыбы в глубинах, и, как пятна, разлитые по ровному синему полю, растворяются в серой предрассветной мгле. Уже виден туман над лугами и тень леса, которая ложится на них под предельно острым углом. На наших глазах начинается жестокая битва, грандиозная схватка света и тьмы, стремительная и неприметная, как бег времени. Перед нами проходят все фазы нападения, изматывания противника и разгрома… Каждая измеряется во времени, у каждой есть своя пора, когда она живет и истощается, борется и умирает тем страшнее, что без крика, без звука. Наконец, тьма начинает отступать. Есть такая минута перед восходом солнца, когда тьма прячется в кусты можжевельника и ивняка, падает ничком в траву, крадется по бурьянам, по бороздам и рвам, проскальзывает к лесу и, наконец, стремглав бросается туда, чтобы притаиться в тени сосен, веять дыханием ночи и с яростью глядеть на светлеющие поля. Именно с этой минуты громче трещат коростели, раздается протяжный крик чаек и, словно трудолюбивый пахарь, начинает петь свой гимн труду добрый друг полей — жаворонок.
Наша поросшая травою тропинка, вся в подсохших лужах и корневищах, иногда выбегает на луг, чтобы затем снова повернуть к лесу. Когда, подчиняясь ее капризным извивам, мы выходим из лесу, отдаленные кусты мы поминутно принимаем за пасущихся на лугу лошадей, подкрадываемся к ним с необыкновенной осторожностью и потом, когда они предстают перед нами, одетые, как ризой, серебристой росой, пинаем их с плохо скрываемой злостью.
Наконец, за лесом багряным пламенем вспыхивает заря. Золотисто — алой каймой опоясываются белые облачка, раскинутые по небу, как капризные мазки, нанесенные кистью на еще не начатом полотне. Кажется, будто чья‑то рука порывисто сдергивает с горизонта черный полог ночи и остатки темноты всасываются в землю. Из тьмы выступают деревни с высокими тополями, которые на заре кажутся голубыми, купы деревьев, дороги, улыбающиеся поля и далекие — далекие полосы синих лесов, подобные огромным застывшим волнам.
Мы подходим к сторожке Лялевича, стоящей между соснами на песчаном холме.
Лялевич уже сидит на пороге. Он вскакивает при нашем приближении, мнет в руках шапку с зеленым околышем и кланяется, по — офицерски щелкая каблуками. Это круглый, полнолицый человечек, в улыбке он забавно скалит зубы, и они у него все похожи на коренные.
— Ну как, Лялевич, утки есть? — интересуется пан Альфред.
— Тучи уток, вельможный пан, ту — у-учи!
— Тогда в путь! Веди.
Мы закуриваем, перекладываем охотничьи ружья с левого плеча на правое и пускаемся в путь. Лялевич шагает впереди, я — позади. Белесые туманы колыхаются, клубятся, уносятся вверх, словно столбы дыма. Иногда из мглы черными пятнами выступают верхушки деревьев или кусты и тотчас же вновь исчезают. На белой, как молоко, росе следы наших сапог тянутся темно — зелеными, почти черными полосами…
— Хороший будет денек! — выпалил вдруг Лялевич, желая, видимо из вежливости, завязать разговор.
— Гм! — буркнул пан Альфред.
Внезапно Лялевич остановился и даже присел на корточки.
— Эге — ге! Это что за ранняя пташка? — прошептал он, глядя на землю. На мокрой траве был виден свежий, идущий по направлению к лесу след телеги.
— Доски, вельможный пан, доски на лесопильне крадут, — убежденно шепнул Лялевич, задыхаясь ог волнения.
— Пойдемте, только тихонько, — прошептали мы в один голос и двинулись по следу в лес.
Подкравшись к лесной вырубке, мы послали Лялевича на разведку, а сами уселись в тени.
Лесник, как лисица, вышел на поляну, где торчали пни, ухмыльнулся, а может, даже облизнулся, — не могу поручиться, — и поманил нас пальцем.
Мы подошли: в зарослях орешника стояли роспуски с запряженной в них клячонкой. Роспуски были маленькие, с совершенно рассохшимися спицами колес. Передок соединялся с задком одной дрогой; сквозь подушки и оси были проткнуты высокие шворни. С правой стороны дышла стояла кляча, привязанная к валькам истрепанными постромками. Были они, верно, одних лет с лошадью. Хомут, не подшитый хомутиной, вытер ей волос на шее, деревянный чересспинник ободрал бока, старые удила разъели губы. Хомут сполз у нее с шеи на уши, так как она опустила голову и, щуря глаза с выражением неописуемой усталости, пощипывала траву. Слепни и мухи садились ей на шею, впивались в острый, как пила, хребет, кусали брюхо, лезли в глаза. Она даже не пыталась их отогнать, а если когда и взмахивала хвостом. то скорей по привычке.
Дряблая кожа висела на кляче, как балахон на скелете, а расслабленные ноги еле удерживали тяжесть костей. Она не обратила на нас решительно никакого внимания, хотя Лялевич уже ощупывал нашильник, осматривал постромок, прикрученный к шворню и служивший, видимо, вожжами. Велели стоять — вот она и стоит, шкуру сдерут — пускай сдирают…
— Богатая, черт подери, упряжка! — проворчал лесник. — Хоть бы обрезок ремня… Веревка на веревке, — добавил он с огорчением.
Мы уселись в ожидании под сосной. Лялевич высунул из кустов голову, подмигивает и улыбается: «Попался! Вот он, Вицек Обаля!»
Обаля идет тихонько, крадется через кустарник, неся на плече четыре доски. Он озирается вокруг, прислушивается, порой приседает. В кустах мелькает его высокая круглая красная шапка.
— Четырехдюймовки, — таинственно, как на исповеди, шепчет нам на ухо лесник.
Вот Обаля уже совсем рядом, ему остается только взвалить доски на телегу и удирать, но тут, словно из-под земли, перед ним вырастает Лялевич, кланяется и говорит:
— Бон — дзюр[1], Обаля…
Мужик бросил доски на землю, сплюнул сквозь зубы и остановился. Было какое‑то сходство между ним и его кобылой. Низенький и худой, с землистым лицом, весь иссохший, изможденный, с необыкновенно сутулой спиной, он производил впечатление приспособления для поднятия тяжестей, чего‑то вроде живого рычага…
Из‑под огромной, как подушка, красной шапки вылезали волосы, длинные, без блеска, давно не чесанные, так как в них торчали сено и соломинки. Одет он был в два куска холста: дерюжную, похожую на юбку рубаху до колен, завязанную у ворота красной тесемкой и перетянутую на бедрах пояском, и старые, тоже дерюжные, короткие штаны, такие грязные, такие черные и изодранные, что, глядя на них, хотелось закричать во весь голос: «А ну, Обаля, давай‑ка свои штаны на парижскую выставку, — пусть знает цивилизованный мир, что и ты по мере сил и возможностей производишь предметы роскоши!» Коленки у него были согнуты, как у кузнечика, штаны на них не порваны, а протерты — с круглыми, точно прожженными дырами. Глядя на его обросшие грязью ноги с искривленными пальцами, с ногтями, как у зверя, с расплюснутыми и вывернутыми пятками, я подумал, что гардероб Обали цивилизация не пополнила, наверно, ни единой парой сапог.