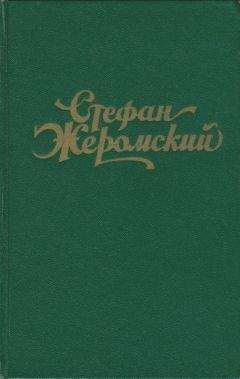Стефан Жеромский - Непреклонная
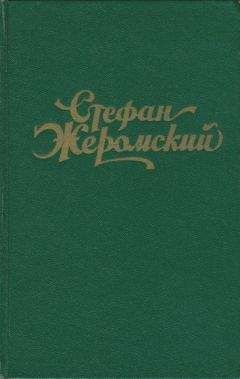
Обзор книги Стефан Жеромский - Непреклонная
Поздравив вместе с аптекарем, почтмейстером и судьей ксендза с днем ангела и проиграв восемь часов сряду в винт, доктор Павел Обарецкий вернулся домой в неважном расположении духа. Тщательно заперев дверь кабинета, чтобы никто, не исключая и двадцатичетырехлетней экономки, не мог к нему ворваться, он присел к столику и сперва упорно без всякого, впрочем, определенного повода, смотрел в окно, а затем стал барабанить пальцами по столу. Он ясно чувствовал, что его начинают одолевать «метафизические бредни»…
Всем известно, что культурный человек, отброшенный из‑за своей бедности центробежной силой от очага интеллектуальной жизни и попавший в какой‑нибудь Кльвов, Курозвенк или, как доктор Обарецкий, Обжидлувек[1], от осенних дождей, плохих средств сообщения, оторванности от людей, с которыми можно было бы перекинуться словом, постепенно превращается во всеядное животное, поглощающее несметное количество бутылок пива и подверженное приступам расслабляющей скуки, от которой его просто начинает мутить. При этом он так же не замечает, как засасывает его эта обычная для захолустья скука, как заяц, поедая траву, не замечает, что поглощает с нею и яйца собачьего солитера. А если в организме угнездился этот яйцеглист равнодушия, когда человеку все становится совершенно безразлично, это значит, что начался уже процесс умирания.
Доктор Павел в тот период своей жизни, о котором идет речь, был уже съеден Обжидлувком вместе с моз гом, сердцем и энергией как потенциальной, так и кинетической. Он испытывал непреодолимое отвращение к чтению, письму и даже счету, мог целыми часами шагать по своему кабинету или валяться на кушетке, с незажженной папиросой в зубах, в тоскливом, докучном и мучительном ожидании чего‑то, что вот — вот должно произойти, или кого‑то, кто вот — вот должен появиться, что‑то сказать, на худой конец хоть пройтись колесом по комнате. И он напряженно вслушивался в шорох и шелест, предвещавший, как ему казалось, конец этой нестерпимой гнетущей тишины. Особенно томительной бывала обычно осень. Тишина, которая осенью в послеобеденный час воцарялась во всем Обжидлувке от одного конца города до другого, была так мучительна, что хотелось просто звать на помощь. В мозгу, словно опутанном мягкой пряжей паутины, рождались мысли, порою невероятно пошлые, а иной раз вовсе несуразные.
Единственное развлечение состояло в посвистывании или разговорах с экономкой, иногда вполне приличных (например, о преимуществах жареного поросенка с гречневой кашей, разумеется, без майорана, по сравнению с таким же поросенком, но с другой начинкой), а ином раз вовсе непристойных. Надвинется, бывало, туча, выпустит, охватив полнеба, огромные чудовищные лапы, и висят неподвижно серые клубы ее над землей, не в силах рассеяться, грозя хлынуть ливнем на Обжидлувек и далекие пустынные поля. Туча сеет мелкий дождичек; уносимый ветром, он падает косо, кристалликами оседая на оконных стеклах, и в шуме ветра ясно слышен его особенный, жалобный шорох, словно за углом дома, обессилев от крика, всхлипывает дитя. Далеко на межах одиноко стоят безлистые дикие груши: ветер треплет их ветви, дождь их сечет… Эта картина наводила печаль, носившую какой‑то неизменный, болезненный характер, и будила смутную, неясную тревогу. Такое болезненноунылое настроение стало постоянным во все времена года, не исключая даже весны и лета. Злая, беспричинная тоска свила себе гнездо в душе доктора. А за ней потянулась неописуемая лень, убийственная лень, когда из рук валится даже томик новелл Алексиса[2].
Приступ «метафизических бредней», который в последнее время находил на доктора Павла раза два в год, длился несколько часов и выражался в трезвом анализе стремительным потоком наплывающих воспоминаний, в нетерпеливых попытках собрать обрывки знаний, в исступленной внутренней борьбе, в пробуждении благородных порывов, погребенных под грузом праздности, во вспышках горечи и раздумья, в «нерушимых» клятвах, решениях, планах… Никаких перемен к лучшему от всего этого, разумеется, не происходило, и приступ проходил так же, как любой иной более или менее мучительный пароксизм. После приступа «метафизических бредней» можно было отоспаться, как после головной боли, встать наутро со свежими мыслями, с новым приливом энергии и новыми силами для того, чтобы нести бремя скуки и все силы своего ума тратить на изыскание наиболее вкусных блюд. Эндемический характер приступов, то, что они регулярно повторялись, указывал все же доктору на то, что за его растительной жизнью, сытой и притом насыщенной философией здравого рассудка, кроется какая‑то невидимая, неизлечимая рана, которая причиняет ему такие же невыносимые страдания, как ранка на гниющей кости.
Доктор Обарецкий прибыл в Обжидлувек шесть лет назад, сразу же после окончания университета, с немногими, но чрезвычайно полезными мыслями в голове и с несколькими рублями в кармане. В то время только и было разговору, что о необходимости селиться во всякого рода Обжидлувках. Обарецкий внял голосу апостолов. Он был смел, молод, благороден и полон энергии. Не прошло и месяца, как он сделал опрометчивый шаг, объявив войну местному аптекарю и фельдшерам, лечившим народ с помощью весьма подозрительных снадобий. Обжидлувский аптекарь, «используя ситуацию» (до ближайшего очага цивилизации, располагавшего аптекой, было около тридцати пяти верст), каждого, кто жаждал исцеления с помощью его снадобий, облагал немалой данью; а фельдшера, действуя заодно с ним, успели уже выстроить себе великолепные дома; все они ходили в шубах на медвежьем меху и сохраняли на своих физиономиях такое торжественное выражение, как если бы только и делали всю свою жизнь, что сопровождали ксендза в процессии «тела господня».
После того как его деликатные, но горячие и весьма патетические попытки убедить фармацевта, что он со всех точек зрения неправ, были расценены как ребячьи фантазии и не дали никаких результатов, доктор Обарецкий, скопив немного денег, купил ручную аптечку и, отправляясь в деревню к больным, стал брать ее с собой. Он сам приготовлял на месте лекарства и отдавал их за бесценок, а то и даром, выслушивал пациентов, учил их правилам гигиены, работал с упорством фанатика, забывая о сне и отдыхе. Как только разнесся слух об аптечках, бесплатной помощи и тому подобных фокусах, в убогой квартире доктора были выбиты все стекла. А так как Борух Покоик, единственный стекольщик в Обжидлувке, праздновал в это время день кущей, доктору пришлось заклеить окна бумагой и по ночам бодрствовать с револьвером в руке. Вставленные, наконец, стекла были выбиты вторично; их высаживали до тех пор, пока не были сделаны дубовые ставни. Среди населения городка был пущен слух, будто молодой доктор знается с нечистой силой, его очернили в глазах местной интеллигенции, выставив совершенным невеждой, к его дверям не подпускали больных, в майские вечера у его окон устраивали кошачьи концерты. Молодой доктор старался не обращать на все это никакого внимания, веря, что правда восторжествует.
Правда не восторжествовала. Кто знает, почему… Прошел год, и доктор почувствовал, что его энергия мало — помалу становится «снедью червей». Он совершенно разочаровался, соприкоснувшись с темной народной массой; все его просьбы, уговоры, чуть ли не целые лекции по вопросам гигиены были так же бесплодны, как зерна, упавшие на каменистую почву. Он делал что только мог — все было напрасно! Сказать по правде, трудно было требовать, чтобы человек, у которого на зиму нет сапог, который в марте выкапывает на чужом поле гнилой прошлогодний картофель и в горячей золе печет из него подобие лепешек, а перед новью мелет ольховую кору, чтобы добавить ее к крошечной мерке ржаной муки, и варит кашу из незрелого зерна, тайком на заре уворованного тоже на чужом поле, мог еще заботиться о своем запущенном здоровье, о правилах гигиены, как бы убедительно они ни излагались.
Незаметно доктору все стало совершенно безразлично. Едят гнилую картошку — что ж поделаешь? — пускай едят, если им нравится. Пускай хоть сырую едят, ничего не поделаешь…
Только евреи лечились еще у мечтателя, поскольку их не пугала нечистая сила и привлекала необычайная дешевизна лечения.
В одно прекрасное утро доктор обнаружил, что огонек, которым он, собираясь сюда, хотел осветить свой жизненный путь, погас. Погас сам по себе: выгорел. Тогда ручная аптечка была заперта в шкафу на ключ и стала служить доктору только для его собственных нужд.
И все же какое это было мученье признать себя побежденным всеми этими фармацевтами и фельдшерами, отступить и закончить обжидлувскую войну, заперев аптечку в шкаф!
Они имели право провозгласить себя победителями и собирать трофеи; но не они — он сам себя победил. Он сам задавил в себе простые и высокие мысли и порывы, быть может оттого, что погряз в обжорстве, так или иначе он сам их задавил. Правда, он еще что‑то делал, лечил, но пользы от этой его деятельности не было уже ни на грош.