Разипурам Нарайан - Конь и две козы
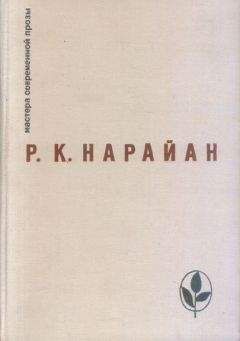
Обзор книги Разипурам Нарайан - Конь и две козы
Р. К. Нарайан
КОНЬ И ДВЕ КОЗЫ
Из семисот тысяч деревень, усыпавших точками карту Индии, в которых рождается, живет и умирает большая часть пятисотмиллионного ее населения, Критам, возможно, была самой маленькой. На земельной карте района она была нанесена едва заметной точкой. Карта предназначалась скорей для чиновников, собирающих налоги, чем для мототуристов, которые все равно бы туда не доехали, ибо деревня расположилась вдали от шоссе, в конце каменистой колеи, пробитой железными ободьями телег, запряженных буйволами. Однако размеры не помешали деревне носить великолепное имя Критам, что по-тамильски означает «алмаз», сверкающий на челе нашего субконтинента. В деревне не набралось бы и трех десятков домов, и лишь один из них был выстроен из кирпича. Выкрашенный в сверкающие желто-синие тона, с пышными фигурами богов и химер на балюстраде, он был известен под именем Большого дома. Другие дома, кое-как разбросанные в четыре ряда, были сделаны из бамбука, соломы, глины и каких-то неопределенных материалов. Дом Муни стоял в четвертом ряду последним, за ним простирались поля. В дни своего процветания Муни владел стадом из сорока овец и коз. Каждое утро он выходил из дома и гнал свое стадо к шоссе, проходящему мили за две от деревни. Там он усаживался на пьедестал глиняной конной статуи, а овцы паслись вокруг. Бамбуковым шестом с крюком на конце он обрывал листья с придорожных деревьев на корм козам, собирал палочки и сухие ветки, связывал их в вязанку и нес на закате домой.
На рассвете жена разжигала огонь в очаге, кипятила в глиняном горшке воду, бросала в нее горсть просяной муки, солила и давала ему на завтрак эту похлебку. Когда он уходил, она совала ему в руки узелок с едой: все то же просо, на этот раз сваренное круто, чтобы он мог съесть его в полдень с сырой луковицей. Она была стара, но он был еще старше и нуждался в ее заботах, чтобы протянуть подольше.
Счастье отворачивалось от него постепенно, неприметно. Бывало, он загонял в хлев стадо из сорока голов, а теперь у него осталось всего две козы; на них не стоило тратить те полрупии в месяц, которые требовал Большой дом за аренду хлева на заднем дворе. Двух оставшихся коз он привязывал к тощему дереву возле своей хижины, с которого время от времени можно было стряхнуть на землю несколько плодов. В это утро он натряс шесть и с торжеством внес их в дом. Никто точно не знал, кому принадлежит дерево, но он считал его своим потому, что жил в его тени.
Жена сказала:
— Хочешь, я сварю и засолю тебе листьев?
— Надоели мне эти листья. Мне страсть как хочется этих плодов с подливой, вот что!
— Да у тебя во рту всего четыре зуба, а туда же, все бы тебе жевать! Ну ладно, достань мне что надо для подливы, и я тебе ее приготовлю. Кто знает, может, в том году тебя и в живых не будет и ты ничего у меня уже не попросишь. Но только достань мне все, что нужно, да не забудь про меру риса или проса. Уж я тебя ублажу, хоть это и ни к чему. У нас ведь ничего не осталось. А нужно чечевицы, перцу, кореньев для приправы, горчицы, масла и одну большую картофелину. Ну, иди и без них не возвращайся.
Он повторил за ней, что требовалось для подливы, чтобы ничего не забыть, и отправился в лавку на Третьей улице.
Там он уселся на перевернутый ящик перед самым прилавком. Лавочник не обратил на него никакого внимания. Муни то и дело прочищал горло, откашливался, чихал, пока наконец лавочник не выдержал и не спросил:
— Что с тобой? Этак ты в канаву свалишься, если будешь чихать так громко, молодой человек.
В ответ на это обращение Муни захохотал во все горло, чтобы польстить лавочнику. Лавочник смягчился и сказал:
— Ты такой непоседа, что и второй жене не дал бы ни минуты покоя! Только вот старая твоя еще скрипит…
И на эту шутку Муни должным образом рассмеялся. Лавочник еще больше смягчился: он любил, когда его чувство юмора находило достойных почитателей. Муни побеседовал с ним немного о местных новостях, что неизменно кончалось разговором о жене почтальона, сбежавшей несколько месяцев назад в город.
Лавочник всегда рад был услышать что-нибудь дурное о почтальоне, который надул его. Почтальон все время был в разъездах и возвращался в Критам лишь раз в десять дней; он умудрялся ускользнуть снова, не заглянув в лавку на Третьей улице. Ублажив таким образом лавочника, Муни всегда мог попросить у него что-нибудь, обещая заплатить позже. Порой лавочник бывал в хорошем настроении и поддавался на уговоры, но порой он выходил вдруг из себя и обрушивался на Муни. Как смеет он просить у него в долг? Сегодня он был не в духе, и Муни не удалось получить у него ничего из того, что назвала ему жена. К тому же лавочник обнаружил удивительную память на старые факты и цифры; в подтверждение своих слов он вытащил откуда-то толстую тетрадь. Муни хотелось встать и бежать. Однако уважение к себе удержало его на месте, заставив выслушать всякие гадости. В заключение лавочник сказал:
— Если бы ты смог найти пять рупий с четвертью, ты бы расплатился со старым долгом, а затем попросил бы, чтобы господь прибрал тебя. Сколько у тебя есть в наличности?
— Я все вам заплачу в первый день следующего месяца.
— Конечно, как всегда. Кого же ты хочешь ограбить на этот раз?
Муни почувствовал, что попался, и забормотал:
— Моя дочь передала мне, что скоро пришлет деньги.
— Так у тебя, значит, есть дочь? — издевался лавочник. — И она еще шлет тебе деньги! Для чего, хотел бы я знать?
— День рождения, — сказал спокойно Муни.
— День рождения! Сколько же тебе лет?
Муни неуверенно ответил (он и сам не знал, так ли это):
— Пятьдесят.
Он всегда отсчитывал свой возраст со времени великого голода, когда он ростом как раз сровнялся с оградой вокруг деревенского колодца. Ну, а если голод теперь наступает чуть не каждый год, разве можно определить что-нибудь точно? Лавочник еще пуще разошелся, увидев, что вокруг собралось несколько человек, чтобы послушать и прокомментировать происходящее. Муни подумал беспомощно: «Моя бедность выставлена людям напоказ. Но что же мне делать?»
— Да тебе никак не меньше семидесяти, — сказал лавочник. — К тому же ты, видно, забыл, что уже рассказывал про день рождения пять недель назад, когда тебе вдруг понадобилось касторовое масло для ритуального омовения.
— Омовения! Где уж тут думать об омовении, когда из водоема и чашки воды не наберешь? Мы бы все давно уж высохли от жажды и умерли, если бы не Большой дом. Они хоть позволяют нам иногда набрать у них из колодца горшок воды.
С этими словами Муни тихонько поднялся и пошел прочь.
Жене он сказал:
— Этот мошенник ничего мне не дал. Иди и продай плоды, может, за них дадут хоть что-нибудь…
И он прилег в углу, чтобы немного отдохнуть после своего похода в лавку. Жена сказала:
— Значит, сегодня не будет подливы, да и вообще ничего не будет. Нечего мне готовить. Попостись до вечера, тебя не убудет.
И вдруг закричала:
— А теперь забирай-ка коз да иди! И не возвращайся, пока солнце не сядет.
Он знал, что если ее послушаться, так она как-нибудь раздобудет ему к вечеру еды. Надо только быть начеку: не спорить с ней, не раздражать. По утрам она часто бывала не в духе, однако к вечеру настроение у нее менялось. Она всегда находила какую-нибудь работу: молола зерно в Большом доме, мела и скребла и зарабатывала достаточно для того, чтобы купить что-нибудь и приготовить ему к вечеру обед.
Отвязав коз, Муни отправился в путь. Он гнал их вперед и время от времени что-то покрикивал. Через деревню он шел, склонив, словно в задумчивости, голову. Ему не хотелось ни на кого смотреть, не хотелось, чтобы с ним заговаривали. Двое старинных дружков, расположившись в тени возле храма, окликнули его, но он прошел мимо. Они знавали его в дни процветания, когда он гордо шествовал среди целого стада тонкорунных овец, а сегодня гнал двух жалких коз. Правда, и раньше он держал, бывало, несколько коз для тех, кому они нравились, но настоящим богатством были овцы. Они быстро плодятся, в период стрижки приходят люди и покупают шерсть, а потом в базарные дни приезжал из города этот знаменитый мясник, привозил ему бетеля, табаку, а часто и бханг[1]. Они курили его в хижине, стоявшей на отшибе в кокосовой роще, куда не заглядывали ни жены, ни доброжелатели. Покуришь — и почувствуешь легкость и воспарение, и хочется простить всех, даже проклятого деверя, который однажды пытался поджечь его дом. Но все это, казалось, были воспоминания из предыдущей жизни. Какая-то хворь напала на его овец (он-то, конечно, догадывался, кто их сглазил), и даже приятель мясник не захотел взять их хоть за полцены… А теперь вот он остался с этими двумя высохшими мумиями. Хоть бы кто-нибудь забрал их у него. Лавочник сказал, что ему уже семьдесят. В семьдесят лет остается только ждать, пока тебя призовет господь. Когда он умрет, что станет с его женой? Они жили вместе с самого детства. В день свадьбы он узнал, что ему было десять, а ей восемь лет: во время свадебной церемонии они должны были назвать свои имена и возраст. За все это время, что они прожили вместе, он побил ее раза два, не больше, позже она стала верховодить в доме. Потомства — никакого. Возможно, если бы у них было много детей, боги бы его благословили. Плодородие приносит уважение. Люди, у которых по четырнадцать сыновей, всегда процветают, довольны собой и всем на свете. Он вспомнил, как радостно дрогнуло у него сердце, когда он сказал лавочнику про дочь, хотя тот ему и не поверил. Да, у него нет дочери, ну и что? Вон у его двоюродного брата в соседней деревне сколько дочерей, любая из них может ему быть за дочь; он их всех любит, как родных, и покупал бы им сладости, если бы у него были деньги. И все же в деревне шептались, что Муни с женой даже детей родить себе не могут. Он старался не подымать ни на кого глаз: все они были такие важные и у всех в деревне было больше денег, чем у него. «В нашей касте я самый бедный, немудрено, что они от меня отворачиваются. Ну и я на них смотреть не буду». Так он и шел, опустив глаза, по улице, держась поближе к домам. Никто с ним не заговаривал, а когда он проходил, замечали:



