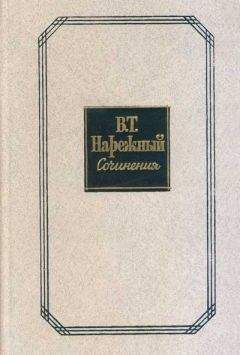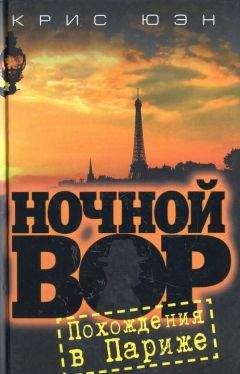Всеволод Иванов - Чудесные похождения портного Фокина

Обзор книги Всеволод Иванов - Чудесные похождения портного Фокина
Всеволод Вячеславович Иванов
Чудесные похождения портного Фокина
1. Город Павлодар и его окрестности, кроме мельниц
О городе Павлодаре я упоминал, наверное, тысячу раз. Мне не стыдно еще раз напомнить.
Там главное – пески, и не поймешь: на небе, на земле ли облака, и среди облаков (а они часто походят на деревянные домишки), среди облаков, государи мои, – тюрьма! Всю Расею-матушку, каторжную и бунтующую, прогнали через эту тюрьму на сибирские кровососные каторги.
Впрочем, портной Фокин о тюрьме не думал, да и какой веселый человек думает о тюрьме? Веселый человек не думает также о каменных домах, если даже и во всем его родном городе был один каменный дом, к тому же необычно названный тюрьмой, «банкой».
Портной Фокин сидел все время смирно. Был он сутул, как павлодарские заборы, криворук и на один глаз косил, да и все в нем было на один бок, так что удивлялись наши павлодарские комиссары. «И откуда у него такая достоверность в игле?!»
И вот накануне вербного воскресенья сидит Фокин, Иван Петрович, у себя на верстаке, хозяйка квартирная вербы ему принесла, рыбой праздничной пахнет, а на верстаке и на стульях френчи накроены, неимоверное количество френчей. Со всего уезда, а может, со всего Семипалатинского округа заказывали Фокину френчи.
Смотрит Фокин на френчи эти и говорит хозяйке:
– А как вы полагаете, Гликерия Егоровна, долго мне придется шить френчи?
– А френчи вам, Иван Петрович, я полагаю, шить долго придется, так как война не окончилась.
– Как так, Гликерия Егоровна, война не окончилась? Чай, завтра вербное воскресенье двадцать третьего года, а последними-то кто с нами воевал? Поляки, – это в котором году было? Вон попу, сказывают, какой-то племянник из столицы коробку папиросную прислал, и можно различить на ней гражданские моды…
– Так ведь это картинки, Иван Петрович, а вам-то все заказывают френчи. Кабы война закончилась, зачем бы им заказывать френчи?
Оглянулся Фокин, и точно: вся комната френчами заросла, даже будто дышать трудно.
– А если, – говорит Фокин, – если я, Гликерия Егоровна, френчи шить откажусь?
– Через почему вы это откажетесь, Иван Петрович?
– А через потому, что не хочу я воевать больше, Гликерия Егоровна, через потому, что хочу шить гражданские фасоны.
– Как же, Иван Петрович, воевать вам, когда вы навсегда освобождены по физическим билетам. Шейте с богом, и пускай другие в ваших работах воюют.
– Откажусь я от себя, Гликерия Егоровна, я упорный ведь.
– Насчет упорства не спорю, Иван Петрович, так как за квартиру вы платите аккуратно, а вот как бы вам заказы свои не потерять!
– И потеряю, мне ничего не жалко!
Вскочил Фокин, волос его пестрый, руки его на три пальца одна короче другой, собрал в охапку все френчи, но тут выкатилась со страху из комнаты Гликерия Егоровна, а через пять минут или того меньше знала вся Проломная улица, что пожег непонятный Фокин все френчи даже из лучших материалов.
К вечеру стали собираться со всего города заказчики. На лавочке за воротами сидела Гликерия Егоровна в новом пестротканом платке и каждому в отдельности рассказывала, как портной Иван Петрович вдруг не захотел войны. И жалко, что ли, было заказчикам своего материала, и, боясь увидеть пепел его, не входили они в дом, или достовернейше хотели знать событие, только толпа все увеличивалась, и скоро, по щиколку увязая в песке, вся Проломная улица наполнилась заказчиками.
Даже те, которые пять лет назад променяли шитые Фокиным одежды, которые слабо помнили – у Фокина они заказывали или у кого другого, и такие, что, возможно, в другом городе встречали похожего портного. И когда лавиной опрокинули Гликерию Егоровну заказчики (песчаная эта лавина чрезвычайно пахла сапогами, крепко промазанными стерляжьим жиром), опрокинули калитку и перед входом стали было голосовать, кто больше всех пострадал и кому входить первому, весело распахнулась обитая войлоком дверь, и Фокин вышел с охапкой френчей.
– Граждане, – сказал он, наступая ногой на охапку френчей. – Граждане Проломной улицы, поднимите Гликерию Егоровну, она ни при чем, я во всем виноват, в чем и каюсь. Тут через тюрьму все граждане прошли, может, и Ленин прошел, которые создали рософесоре и мир народам. Вы же, граждане, продолжаете шить френчи, не переходите на мирное положение, втайне надеясь на войну! А я войны не хочу и вам, мирным людям, френчи шить не буду, я портной статский и жду от вас статских заказов… Возьмите свои материалы, которые даже скроены и начали пошиваться, мне ни ниток, ни работы своей не жалко!..
Первую неделю Фокин придумывал новые статские фасоны, во вторую зарисовывал, а на третью стал ждать заказчиков.
Лужи повысохли, показалась, как первый шов, робкая трава, поднялась выше, распустилась листочками. Гликерия Егоровна просила за квартиру, а заказчиков не было. Пришел вдруг кладбищенский поп и заказал подрясник, а через час вернулся и отобрал материал.
Фокин не спал ночь и только под утро увидал легкодремный сон, который всего страшнее: будто шьет он подрясники на кресты всего кладбища.
Утром спросил хозяйку:
– Не купите ли, Гликерия Егоровна, швейную мою машину фасона Зингер?
– А для чего ж вам продавать ее, Иван Петрович, я с квартирой могу подождать, а вы, может, передумаете.
– Отцы и деды мои видали многое, Гликерия Егоровна, даже одно время жили против теперешней тюрьмы, я человек упорный, я намереваюсь покинуть пределы моей жизни возможно дальше.
– Господь с вами, Иван Петрович, стоит ли обращать примету на кладбищенского попа, когда он пьяница и охальник!
– Не с попа я, а с желания мирного существования, – купите, так как уезжаю я за границу, в неизвестные дебри…
– Да что вы, китайцев не видали, Иван Петрович?
Промолчал Фокин, поглядела на его азартно вспотевший курносый кусочек тела и начала торговаться Гликерия Егоровна.
Устроил духом одним древнюю странничью котомку Фокин, положил туда иглы, кусок яичного мыла, вздохнул, – потому что ни с одним заказчиком проститься охоты не было, съел на дорогу яйцо и пестрые волосы свои крепко забрал под фуражку.
2. Фокин в дороге и ею встреча с паном Матусевичем
А в вагоне, хотя и шел он медленно (был всегда страх Фокина перед коровами и медленностью), испугался вдруг чего-то Фокин. Разговоры идут о человеке, который скупал у всех удостоверения, соскабливал чужие фамилии резинкой и вписывал свою. Большая карьера и большой почет у этого человека были. Всю дорогу почти об этом говорили, и непонятно: от зависти ли пред карьерой или большим количеством мандатов, дающих такое спокойствие человеку.
Мутно стало Фокину – удостоверений нет, паспортишко какой-то завалящий, – спросил о костюмах. Похвалили всю московскую жизнь, а о костюмах ничего сказать не могут, точно ходят там голыми. Только встретил он портняжку на затхлой какой-то станции, в Сибирь тот ехал. Шьют, говорит тот, точно, шьют в Москве статское, однако мало и преимущественно кальсоны, даже поговорка есть – материи в окнах горы, а ходят голы.
В Сибирь еду постольку, поскольку слышал – там на статское много заказчиков, Сибирь – страна хлебная, и мужик там любит, чтоб под мышками не жало!
– Сдурел мужик, – ответил ему со злостью Фокин, – либо френч заказывает, либо на дому самостоятельно шьет, а самостоятельно – черт его знает что шьет, неизвестно, – может, противогазы…
– Я, – говорит портняжка с радостью, – я могу и френчи, и даже противогазы шить, так как френчи в Москве шьют сами военноученые портные в солдатах.
Огорчился Фокин, а тут за огорчением не заметил – московский вокзал, и суетня такая, точно вся Россия переселяется. Влезть в такую сумятицу страшно, сам себя потеряешь, притулился в своем вагоне Фокин. А если на границе такой же город, да у поляков встречный городище, с гонору построенный, втрое крупнее, – как тут перейдешь? И в огорчении замолчал Фокин и так молчал до Изяславля, что за городов Минском, на самой польской границе.
А к храбрости Фокина станция Изяславль самая обыденная, даже по российскому обычаю станциоц. ный колокол голуби обсидели, и только меж зелено-околышных пограничников мельтешат мельчайшие людишки.
То есть сначала не поймешь – человек ли, тень ли, или просто телесное воспоминание. Очень неудобно от разговора с таким, – ходил-ходил Фокин, поправлял-поправлял сумку, а если странник сумку поправляет, значит, неладно, потому что сумка прилаживается навечно, – эх, думает, не обойтись мне без такого человечка. Только подумал, а он тут как тут: усы в кольцо, руки в кольцо, и только неестественнейшей прямоты и длины нос.
– Разрешите, – говорит скороговорным говором, – разрешите рекомендоваться – пан Казимир Матусевич.
– Здравствуйте, пан Матусевич, – только успел ответить Фокин и чувствует: вот он уже за станцией, у какого-то прокисшего заборчика, пан на него перегарами туманными дышит, и шепот у него мельче дыханья: