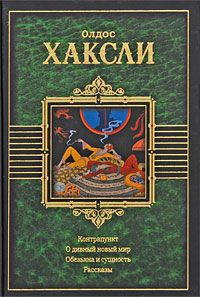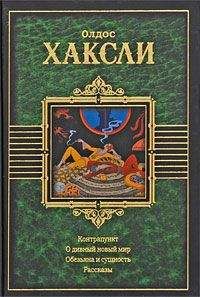Олдос Хаксли - Баночка румян
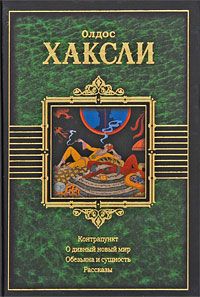
Обзор книги Олдос Хаксли - Баночка румян
Олдос Хаксли
Баночка румян
Рассказ
Скандал длился уже добрых три четверти часа. Невнятные, приглушённые звуки выплывали в коридор из другого конца квартиры. Склонившись над шитьём, Софи спрашивала себя, без особого, впрочем, любопытства, что же там такое на этот раз. Чаще всего слышался голос хозяйки. Пронзительно-гневный, негодующе-слезливый, он безудержно изливался бурливыми потоками. Хозяин лучше владел собой, голос его был глубже и мягче и не так легко проникал через запертые двери и коридор. Из своей холодной комнатушки Софи воспринимала скандал большей частью как серию монологов Мадам, в промежутках между которыми воцарялось странное зловещее молчание. Но время от времени Месье, казалось, совершенно выходил из себя, и тогда уже не было тишины между всплесками: стоял непрерывный крик, резкий, раздражённый. Громкие вопли Мадам доносились не переставая, ровно, на одной ноте: её голос даже в гневе не терял своей монотонности. А Месье говорил то громче, то тише; голос его приобретал неожиданный пафос, менял модуляции – от мягких увещеваний до внезапных воплей, так что его участие в перебранке, когда оно было слышимо, выражалось отдельными взрывами. Будто пёс лениво гавкает: «Р-гав. Ав. Ав. Ав».
Через какое-то время Софи перестала обращать внимание на шум. Она чинила лифчик для Мадам, и работа поглощала её целиком. Как она устала, всё тело ноет. Сегодня был тяжёлый день, и вчера тяжёлый день, и позавчера тяжёлый день. Каждый день – тяжёлый, а она уже не молоденькая: ещё два года – и пятьдесят стукнет. Каждый день – тяжёлый, с тех пор как она себя помнит. Ей представились мешки с картошкой, которые она перетаскивала девочкой, когда ещё жила в деревне. Медленно-медленно бредёт, бывало, по пыльной дороге с мешком через плечо. Ещё десять шагов – и конец: можно дотянуть. Только вот конца никогда не было: всё начиналось сызнова. Она подняла голову от шитья, помотала ею, зажмурившись. Перед глазами заплясали огоньки и цветные точечки – теперь такое с нею часто случается. Какой-то желтоватый светящийся червячок всё время извивается вверху справа – ползёт и ползёт, но не сдвигается с места. А ещё красные, зелёные звёзды всплывают из темноты вокруг червячка – мерцают и гаснут, мерцают и гаснут… Всё это мелькает перед шитьём, горит яркими красками даже теперь, когда глаза закрыты. Ну, пожалуй, хватит отдыхать: ещё минуточку – и за работу. Мадам просила приготовить лифчик к завтрашнему утру. Но ничего не видать вокруг червячка.
На другом конце коридора шум внезапно нарастает. Дверь открылась, явственно прозвучали слова.
– …bien tort, mon ami, si tu crois que je suis ton esclave. Je ferai ce que je voudrai [1].
– Moi aussi [2]. – Смех Месье не предвещал ничего хорошего. В коридоре послышались тяжёлые шаги, что-то хрустнуло на подставке для зонтиков, с треском захлопнулась входная дверь.
Софи снова склонилась над работой. Этот червяк, эти звёзды, эта ломота во всём теле! Провести бы целый день в постели – в огромной постели, пушистой, тёплой, мягкой, – целый Божий день…
Звонок хозяйки напугал её – этот звук, похожий на жужжание растревоженных ос, всегда заставлял её вздрагивать. Софи встала, положила шитьё на стол, разгладила передник, поправила чепец и вышла в коридор. Звонок ещё раз неистово зажужжал. Мадам, видно, совсем потеряла терпение.
– Наконец-то, Софи. Я уж думала, вы никогда не явитесь.
Софи промолчала – что тут скажешь? Мадам стояла перед распахнутым настежь шкафом. Она прижимала к груди целую кучу платьев, ещё ворох разнообразной одежды валялся на кровати. «Une beaute a la Rubens» [3], – говаривал о ней муж, когда бывал в благодушном настроении. Ему нравились такие женщины: роскошные, крупные, полногрудые. Что возьмёшь с этих невесомых фей – кости одни, больше ничего. Он ласково звал жену «моя Елена Фоурмен».
– Когда-нибудь, – говорила Мадам знакомым, – я должна всё же пойти в Лувр и поглядеть на свой портрет. Кисти Рубенса, знаете ли. Это просто поразительно: всю жизнь прожить в Париже и ни разу не побывать в Лувре. Не так ли?
Сегодня вечером она была великолепна. Щёки пылали, глаза под длинными ресницами сверкали ярче обычного, короткие рыжевато-каштановые волосы живописно разбросаны по плечам.
– Завтра, Софи, – трагически произнесла она, – завтра мы едем в Рим. Утром.
Говоря это, она сняла с вешалки ещё одно платье и швырнула его на постель. От резкого движения халат распахнулся, мелькнуло расшитое бельё и пышное, белоснежное тело.
– Надо немедленно собираться.
– Надолго ли едем, Мадам?
– Две недели, три месяца – откуда мне знать? Да и какая разница?
– Большая, Мадам.
– Главное – уехать. После того, что мне сейчас было сказано, я вернусь в этот дом, только если меня будут об этом умолять на коленях.
– Тогда, Мадам, лучше взять самый большой чемодан. Пойду принесу.
В кладовке было душно, пахло пыльной кожей. Большой чемодан затиснут в дальний угол; чтобы вытащить его, нужно наклониться и тянуть изо всех сил. Червячок и цветные звёзды задрожали перед глазами, а стоило выпрямиться, как закружилась голова.
– Я помогу вам собрать вещи, Софи, – сказала Мадам, увидев горничную, волочившую тяжёлый чемодан. Какое страшное, смертельно усталое лицо у этой старухи! Она не выносит рядом с собой людей старых и некрасивых, но Софи такая расторопная, было бы глупо уволить её.
– Не беспокойтесь, Мадам. – Софи прекрасно знала: начни только Мадам открывать ящики и расшвыривать повсюду вещи, конца этому вовек не будет. – Вам лучше лечь. Уже поздно.
Нет, нет. Она не сможет уснуть. Она так расстроена. Эти мужчины… Вот изверг! Что она, раба ему? Как он смеет так с ней обращаться!
Софи укладывала вещи. Целый день в постели, в мягкой постели, в большой постели – в такой, как эта, в спальне у Мадам. Задремать, проснуться ненадолго, опять задремать…
– Последний его номер, – возмущалась Мадам, – денег, мол, нет. Я не должна, видите ли, покупать столько платьев. Какая нелепость! Что же мне, голой ходить, что ли?! – Она развела руками. – Говорит, не можем себе позволить. Чушь какая. Уж он-то не может! Он просто подлец, подлец, невероятный подлец. Занялся бы для разнообразия чем-нибудь полезным, вместо того чтобы кропать идиотские стишки, да ещё и печатать их за собственный счёт, нашлись бы и деньги. – Она расхаживала взад и вперёд по комнате. – А тут ещё этот старикан, его отец. Ему-то что, спрашивается? «Вы должны гордиться, что ваш муж – поэт». – Последние слова она произнесла дрожащим старческим голосом. – Ну смех, да и только. «Какие прекрасные стихи посвящает вам Эжезипп! Сколько страсти, сколько огня!» – Она передразнивала старика: лицо её сморщилось, челюсть дрожала, колени подгибались. – А Эжезипп-то, бедняга, – лысый… последние три волосины… и те красит! – Она задыхалась от хохота. Продолжала, чуть переведя дух: – А страсть-то, а огонь – шуму о них много в паршивых его стишонках… а на деле… Но, Софи, милая, что с вами? Зачем вы укладываете это мерзкое старое зелёное платье?
Софи молча вынула платье. Ну почему именно сегодня ей вздумалось так жутко выглядеть? Больна, наверное. Лицо жёлтое, и губы совсем посинели. Мадам передёрнуло: ужас какой. Надо бы отправить её в постель. Но отъезд важнее. Что тут сделаешь? На душе у неё было как никогда скверно.
«Ужас. – Вздохнув, она тяжело опустилась на край кровати. Тугие пружины подбросили её раза два, пока не утихомирились. – Выйти замуж за такого человека. Скоро я стану старой, толстой. И ни разу ещё не изменила. А он чем платит?» Она встала и вновь принялась бесцельно бродить по комнате.
– Я этого не вынесу, – вырвалось у неё. Она застыла возле большого зеркала, восхищённая своим трагическим великолепием. Глядя на неё сейчас, никто бы не сказал, что ей за тридцать. Но позади трагической героини в зеркале видно, как иссохшая старуха с жёлтым лицом и посиневшими губами копошится у большого продолговатого чемодана. Нет, это уж слишком. Софи сейчас похожа на тех нищенок, которые холодным утром стоят у сточных канав. Пройти мимо, стараясь не глядеть на них? Остановиться, открыть кошелёк, дать им медную монетку, или серебряную, а может, и купюру в два франка, если мелочи нет? Как ни крути, а всё равно так и тянет извиниться за то, что тебе в мехах тепло и удобно. Вот что значит ходить пешком. Был бы автомобиль – опять подлый Эжезипп! – можно мчаться себе вперёд, опустив шторки, и даже не подозревать о том, что есть где-то подобные уродины. Она отвернулась от зеркала.
– Я этого не вынесу, – произнесла она, стараясь не думать о нищенках, о посиневших губах и пергаментно-жёлтых лицах, – не вынесу. – Опустилась на стул.
Только представить себе – такой вот любовник, беззубый, морщинистый, с синими, искривлёнными в улыбке губами. Она закрыла глаза, содрогаясь от одной этой мысли. С души воротит. Помимо воли взглянула ещё раз: глаза у Софи были тусклые, тяжёлые, как свинец, почти совсем мёртвые. Что же делать? Лицо старухи было укором, обвинением, напоминанием. Ей делалось дурно от одного его вида. Она никогда не чувствовала себя такой разбитой.