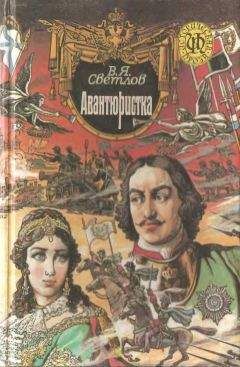Иво Андрич - Исповедь
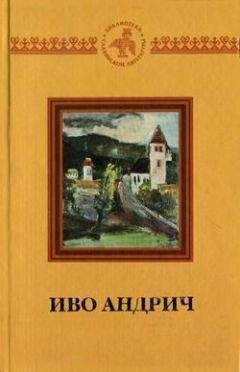
Обзор книги Иво Андрич - Исповедь
Иво Андрич
Исповедь
Крестьянин Петар Лёлё двинулся в путь с гор еще до света и вот с раннего утра ждет во дворе, когда игумен позавтракает и примет его. Ни с кем другим он говорить не хочет. Он топает затвердевшими опанками по мерзлой земле, дует в кулаки и ждет. Прошло немало времени, прежде чем он наконец предстал перед игуменом, фра Юлианом Кнежевичем, книжником и добряком, но необыкновенным лентяем и соней. Об этой своей слабости фра Юлиан мог со спокойной совестью умалчивать на исповеди, настолько она была широко известна и неисправима. Безусловно, он сохранит ее и в Судный день, ибо на этом свете нет для нее ни кары, ни лекарства. Крестьянин стоял перед игуменом, комкая узловатыми руками феску и шейный платок. Лёлё – седой чистенький старичок, застенчивый, как ребенок. Жил он в горах бобылем. Давным-давно он овдовел и больше не женился. Обстирывали его и латали ему одежду замужние дочери, жившие в селе. Так и жил один: пас на горных пастбищах стада скототорговца, в село спускался редко, а в город и того реже. Сейчас он стоял перед игуменом; на лице его было присущее крестьянам выражение растерянности, которое часто принимают за улыбку. Он то и дело опускал глаза под взглядом огромных глаз игумена, спокойно смотревших на него из глубоких, правильной формы глазниц.
– Вот, стало быть, отец настоятель, больной у нас, – неуверенным голосом ответил он на вопрос игумена.
– Кто? – нетерпеливо спросил фра Юлиан и уже хотел позвать капеллана.
– Да нет, преподобный отец, простите, это не такой больной как все, он, как бы это сказать…
– Что? Что ты плетешь?
– Да видите ли, преподобный отец… – Здесь крестьянин призвал все свое красноречие и выпалил единым духом: – Есть у нас в горах гайдук, Роша, так вот, расхворался он. Того и гляди, помрет, я и пришел к вам…
Услышав, в чем дело, игумен оборвал его на полуслове и позвал двух братьев. И тогда крестьянин рассказал все по порядку.
Иван Роша десять лет тому назад ушел в гайдуки и был известен в окрестностях Крешева; последние годы он провел в Далмации и Герцеговине, а когда французы выгнали его оттуда, подался в Черногорию. Этой осенью он вкупе с черногорцами ограбил возле Сеницы французского курьера, ехавшего в Царьград. Французы настойчиво требовали найти грабителей и предать их суду. Турки начали преследовать его по пятам. Полагая, что в родных местах его вряд ли станут искать, он перебрался в Боснию. Еще в дороге он заболел. Сейчас лежит в горах. Отдает богу душу, а бог ее не принимает.
– И он послал тебя за священником? – спросил один из монахов.
– Нет, простите, братья, – выкручивается Лёлё, которому очень трудно говорить правду, но скрыть ее он не решается. – Дело было вот так. Во вторник утром пошел я по дрова и вдруг слышу, как из кустов кто-то зовет меня: «Лёлё, Лёлё!» Пошел я на голос и вижу: лежит человек на животе, весь посинел и распух. Никак не могу я его признать, не видел ведь сколько лет! «Я Иван Роша, – сказал он. – Помоги, говорит, ежели ты крещеный. Есть, говорит, здесь, где-то полдорогой пещера, запамятовал, в каком месте. Спрячь, говорит, меня там, а то, не ровен час, турки схватят или ночью замерзну». И стал меня Христом-богом молить. Ну, пошел я искать пещеру. Нашел в скалах дыру, все, как он мне описал. Взвалил его на спину, ровно колоду, и снес в пещеру. Только тогда и разглядел, что дурная опухоль на нем и что он при смерти. Сходил за хлебом и водкой. Вижу, совсем он плох. Водки проглотить не может. Пить, говорит, хочу. Но и воду не может пить, захлебывается. Хотел я разложить ему костер, да он не дал. Не надо, говорит, я за ним следить не могу, а потому или задохнусь здесь, или дым выдаст меня туркам. Набрал я сухих листьев и сделал для него подстилку, чтоб ему было потеплее.
Игумен нетерпеливо кашлянул, но крестьянин продолжал:
– Пришел я на другой день. Ему будто полегчало. Купи, говорит, мне водки покрепче, полыни и меда – примочку сделаю. И дал мне венецианский дукат. Купил я все и от себя добавил две овчины, чтоб было ему чем накрыться. Прихожу опят – лучше. Тому уж три-четыре дня будет. Нельзя мне часто к нему ходить – еще заприметит кто, а все-таки жаль его, хоть он и гайдук…
Снова один из монахов взглянул на игумена, собираясь прервать рассказ, но крестьянин, который, видно, приготовился договорить все до конца, не позволил себя остановить.
– Вчера, уж за полдень, взял я хлеба с брынзой и пошел. Он, несчастный, стонет. Спрашиваю, что с ним, не отвечает, а только дергает меня за гунь и хрипит, точно душа из него выходит. Даже не взглянул на еду. Уцепился за меня и не отпускает и все глазами что-то ищет. Ты, говорю, простыл. Он откашлялся и едва вымолвил: «Нет, брат, большой грех у меня на душе». Заладил одно и все за горло хватается. «Большой грех гнетет меня, не могу я с ним ни жить, ни умереть!»
Крестьянин в смущении замолчал.
– И он послал тебя за духовником?
Крестьянин почесался.
– Да нет, просто вижу я, что человек при смерти, а из-за грехов не может расстаться с душой, вот и предложил ему: «Схожу я, Роша, в монастырь, попрошу братьев, может, кто и придет сюда».
Крестьянин опять смутился и замолчал. Но теперь монахи сами требовали продолжения. Чтоб поскорей покончить с неприятным сообщением, Лёлё спешно проговорил:
– Так вот не хочет он! Не хочет!
– Как? Почему не хочет? – изумились монахи.
– Жар у него, и сам не знает, что говорит. Не надо, говорит, мне монаха; он мне не поможет. Большой на мне грех, говорит.
– Почему не хочет? Он сказал, почему не хочет? – разом закричали монахи. Игумен, который сидел, уныло понурив голову, не произнес ни слова.
Крестьянин долго молчал – ему не хотелось выкладывать все, что сказал Роша. Но монахи пристали к нему, и волей-неволей пришлось признаться. Роша отказался от исповеди потому, что-де «у монахов ни детей, ни кола своего, ни двора, не знают они, что такое мука и грех». Что-то в этом роде.
Монахи переглянулись. А крестьянин, испытывавший неловкость, поспешил заговорить снова:
– Не умею я в точности сказать, что он говорил. Плел что-то несуразное. Одним словом, больной. Кто поймет его? А этой ночью я глаз не сомкнул. Все думаю: боже праведный, как быть, что делать. Пронял меня страх. Нешуточное дело. Ведь душа человеческая! Пойду-ка, думаю, к игумену и расскажу все как есть, сниму со своей души тяжесть. А уж он пусть делает, как бог и святые книги учат.
Крестьянин вздохнул. Монахи продолжали переглядываться. Игумен быстрым жестом положил конец общей растерянности и велел Лёлё идти во двор и там ждать, когда позовут.
Между старыми монахами тотчас же загорелся спор. Фра Никола Кезич, по прозвищу Волк, неприятным, грубым басом призывал игумена к осмотрительности. Времена, мол, неспокойные и тяжелые, этот Лёлё человек чудаковатый и недалекий, а гайдук есть гайдук. Если турки дознаются, что монахи ходили в горы и встречались с гайдуком, то гнев их падет не на Лёлё и Рошу, а на монахов и монастырь. Другие доказывали, что надо идти, – как-никак крещеный человек умирает, и притом большой грешник. Тщедушный безусый Субашич, окончивший духовную семинарию в Италии, притащил книги. Он подносил всем по очереди «Ритуал» и новое венецианское издание «Прав и обязанностей приходского священника». Фра Никола Волк не пожелал даже взглянуть в книгу, хотя Субашич совал ему ее под нос, желтым ногтем подчеркивая строки, подтверждающие его мнение.
– Я спрошу твоего совета, когда надо будет штраф платить!
Игумен молчал, и спор грозил затянуться, но тут в трапезную влетел фра Марко. Он хлопотал в кухне и последним узнал, в чем дело. Фра Марко не стал слушать ни доводов Субашича, ни предостережений Кезича, как был с засученными рукавами, оправил сутану, подошел к игумену, склонил голову и сказал твердо и решительно:
– Благослови, отец игумен, я пойду с Лёлё к тому больному.
Игумен, будто он только того и ждал, с трудом поднял свою красивую белую руку и благословил его. Все тотчас же принялись давать фра Марко наставления. Пусть выйдет на другой конец города и идет прямо к дому Лёлё, чтоб запутать следы, и главное – пусть остерегается турок. Но фра Марко снаряжался в дорогу, никого не слушая и торопясь, как на пожар. Он надел черный плащ на лисьем меху и тяжелые сапоги, гремевшие на весь монастырь. В этой одежде он казался еще крупнее и массивнее. Вороная лошадь, впереди которой степенным крестьянским шагом шел Лёлё, даже прогнулась под его тяжестью. Так они тронулись в путь, старательно обходя центр города.
Три часа поднимались в гору по каменистому склону, а потом начали спускаться по крутому берегу Бабина Потока. Шагах в двухстах под ними чернело высохшее дно ручья, усеянное большими валунами. Весной и осенью их приносит сюда ручей, который теперь, в зимнюю пору, совсем терялся среди камней и почерневших древесных стволов. На пригорке между двумя соснами показался дом Лёлё. Они остановились. Крестьянин еще раз огляделся по сторонам и дал монаху знак спешиться. Фра Марко, сгоравший от нетерпения, отказался зайти к Лёлё, завел коня в скалы и привязал его к промерзшему можжевеловому кусту. Они стали спускаться вниз по каменистой осыпи. Крестьянин шел легко и привычно, а фра Марко шагал с трудом, хватался левой рукой за острые уступы скал и громко охал. Они очутились в мрачном каменном ущелье, где даже летом не бывало травы.