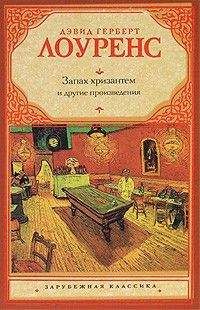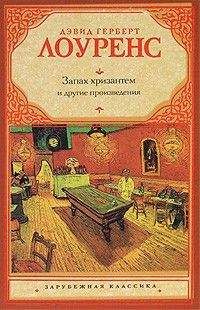Дэвид Герберт Лоуренс - Дева и цыган
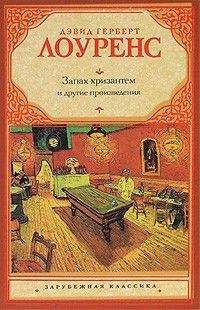
Обзор книги Дэвид Герберт Лоуренс - Дева и цыган
1
На весь белый свет ославила приходского священника жена: сбежала с каким-то неимущим юнцом. Бросила двух малых дочерей, семи и девяти лет от роду. Оставила такого хорошего мужа. Правда, волосы его уже тронуты сединой, но усы черны, да и сам священник — мужчина видный. И сильна его затаенная страсть к своевольной красавице жене.
Почему она ушла? Почему умчалась прочь, порвав с мужем столь недостойно, словно рассудок ее враз помрачился?
Объяснить этого никто не мог. Святоши лишь твердили, что она «погрязла во грехе», иные праведницы помалкивали: они понимали отступницу.
А осиротевшие девочки так и не поняли. Они крепко горевали: наверное, мама ушла потому, что они ей не нужны.
Злые ветры судьбы сорвали с места семью священника. Кто бы мог подумать, что его, автора полемических, задиристых статей, человека небезызвестного в литературных кругах, где ему весьма сочувствовали в постигшем горе, занесет в глухое местечко на севере, в Пэплуик. Но воистину нет худа без добра. Господь усмирил злой рок и определил простого священника настоятелем местной церкви.
Поселился он в довольно неприглядном каменном особняке на берегу реки Пэпл при въезде в селение. За мостом при дороге высились огромные старые каменные хлопкопрядильни, некогда движимые силой воды.
С получением прихода изменилась и жизнь священника, и его семья. Новый настоятель перевез к себе старуху мать и сестру с братом из города. У малых дочерей его появилось новое, совсем отличное от былого окружение.
Настоятелю было в ту пору сорок семь лет. Он, словно забыв о достоинстве, не скрывал от людей глубокой тоски по беглянке-жене. Сердобольные прихожанки едва отвратили его от самоубийства. Голова у него поседела почти всплошную, во взгляде появилось безумное, трагическое выражение. Весь облик его говорил о тяжком горе. Посмотришь и сразу скажешь: лихо пришлось человеку, жестоко с ним обошлись.
И все-таки угадывалась в его нынешней скорби фальшь. Некоторые прихожанки, еще недавно всей душой сочувствовавшие бедному священнику, брошенному женой, стали втайне недолюбливать настоятеля. Угадывалась в его мученическом облике тщательно скрываемая самоупоенность.
Малышки дочки, не в силах постичь всего детским своим умом, безропотно принимали перемены в семейной жизни. Теперь в доме главенствовала бабушка, хотя ей перевалило за семьдесят и видела она все хуже. Хозяйством стала ведать тетя Цецилия, ей шел пятый десяток, была она постна лицом и набожна: снедал ее какой-то скрытый недуг. Поселился у них и дядя Фред, сорокалетний невзрачный скупец; жил он скучно, заботясь лишь о себе, каждый день ездил в город. Первым лицом в семье был сам настоятель, разумеется, после бабушки.
В семье ее величали Матушкой. Была она из тех крепких и хитрых старух, кто всю жизнь вершит свою волю, потрафляя слабостям родичей-мужчин. И на этот раз она быстро смекнула, что к чему. Конечно же, сын и поныне «любит» грешницу жену и будет «любить» до гробовой доски. А посему — молчок! Чувства настоятеля святы! В сердце своем воздвиг он памятник чистой девушке, с которой пошел под венец и которую боготворил.
А где-то далеко, в суетном греховном «миру», ходит-бродит порочная женщина, предавшая настоятеля и бросившая малых детей. Она связалась с жалким юнцом, с ним она, конечно, окажется на дне, впрочем, там ей и место! Именно это нужно особенно подчеркнуть, а об остальном — молчок! Ведь в чистой и высокой душе настоятеля белоснежным цветком распустился непорочный образ юной невесты. И цвести ему — не отцвести. А та, что сбежала с жалким юнцом, совсем-совсем другая женщина, и настоятель к ее жизни непричастен.
Матушка, доселе жившая в маленьком домике по-вдовьи смирно и неприметно, в каменных настоятельских покоях утвердилась на семейном престоле, крепко припечатав его грузным телом — не свергнуть! Хитрая старуха, скорбно вздыхая, воздала дань немеркнущему чувству сына, хотя на людях и поругивала его. Из уважения к «великой любви» сына она ни словом не осудила этот чертополох в женском обличье, что сейчас расцвел пышным цветом во греховном мире. Слава Богу, блудница нашла себе нового мужа и сменила фамилию. Ни одна женщина больше не носит фамилию настоятеля. А непорочный белоснежный цветок отныне и вовеки будет жить в сердце Артура, не принимая конкретных очертаний и имен. Даже имя изменщицы — Синтия — почти не упоминалось в семье, о ней вспоминали не иначе как о «той пресловутой особе».
Матушке это было лишь на руку. Ее положение упрочилось — вряд ли Артур женится еще раз. Она перехитрила сына, сыграв на, казалось бы, незначительной его слабости — на себялюбии, которое он тщательно скрывал. Ах, какую невесту себе он выбрал — неувядаемый белоснежный цветок! Ах, счастливчик! Но вот его обидели. Ах, бедняжка! Ему горько и тоскливо! Ах, безгранична его любовь! Он даже простил изменщицу! Да, белоснежный цветок прощен! Не появись этот проходимец, супругу настоятеля ждало бы со временем немалое наследство… Впрочем, хватит. Молчок! Даже в мыслях не прикасаться к этому чертополоху, к «той пресловутой особе»! Пусть себе процветает в зловонном похотливом мире. А белоснежному непорочному цветку уготовано место в заоблачных вершинах прошлого. О дне сегодняшнем разговор отдельный.
Так и росли девочки, видя перед собой упоенного своим мученичеством отца, о матери не упоминалось вообще. Им показывали лишь белоснежный цветок в заоблачных далях и внушали, что это святыня, помещенная в гордом отдалении от их жизни и недоступная.
И все же порой из зловонной мирской суеты доносился тлетворный, чертополоший запашок «той пресловутой особы» — запашок эгоизма и низкой похоти. Время от времени она даже умудрялась передать дочкам записку. И седовласая Матушка молча исходила злобой: случись «пресловутой особе» вернуться, почтенной главе семейства — конец! Старухина затаенная ненависть опаляла и девочек — детей мерзкой, распутной Синтии, всем сердцем презиравшей Матушку.
Девочки отчетливо помнили прежний дом в приходе на юге и свою обаятельную, но переменчивую мать. Синтия наполняла дом жизнью, ярким светом, однако солнце это не только грело, но и жгло, оно то появлялось, то вновь исчезало. Когда мать бывала дома, девочки и радовались, и боялись; та и чаровала их, и отталкивала собственным эгоизмом.
И вот чаровницы больше нет, остался лишь застывший, точно на фарфоровом погребальном венке, белоснежный цветок. Не нужно больше бояться переменчивых настроений, непредсказуемых желаний и прихотей, терзавших семью хищными когтями; все в жизни установилось, стало тихо и спокойно, как на кладбище.
А девочки между тем росли. И год от года росло их замешательство, множились безответные вопросы. Матушка, наоборот, дряхлела, слепла. Ее уже приходилось водить по дому. Вставала с постели она лишь к полудню. Впрочем, почти ослепнув и обезножев, она тем не менее верховодила в семье.
Да так ли уж она одряхлела? Всякий раз, когда в доме появлялись мужчины, Матушка царственно встречала их, сидя в кресле. Разве хитрая старуха могла допустить, чтобы обошлось без нее? Ведь в доме объявились соперницы.
И первая — младшая дочь настоятеля, Иветта. Что-то унаследовала она от «пресловутой особы»: такая же беззаботная и беспечная, не замечающая ничего и никого вокруг. Разве что не столь своевольная. Вовремя, видать, укротила ее бабушка. Надолго ли?
Настоятель не чаял души в младшей дочке, баловал ее, являл «слепую отцовскую любовь», желая показать каждому, как он добр, мягок, снисходителен. Он хотел, чтобы именно так о нем и отзывались. Матушка знала все его слабости до мелочей. И не только знала, но и умело пользовалась ими, обращая их в достоинство сыновнего характера. Подобно тому как женщины мечтают об обворожительных туалетах, Артур мечтал об обворожительном характере. И Матушка ловко маскировала одни его недостатки, облагораживала другие. Любящим материнским сердцем угадывала она его слабости и в угоду ему приукрашивала их. Не в пример «той пресловутой особе»… Хотя в данном случае ее лучше не упоминать. Ведь в глазах бывшей жены Артур представал едва ли не ублюдком-горбуном.
Удивительно! Бабушка втайне ненавидела старшую девочку — Люсиль — куда сильнее, чем избалованную Иветту. Застенчивая и легковозбудимая, Люсиль в отличие от своей взбалмошной и беспечной сестры острее чувствовала бабушкин гнет.
Зато тетя Цецилия ненавидела Иветту, самое имя было ей противно. Свою жизнь тетя принесла в жертву Матушке, и прекрасно это сознавала, ее обреченность не скрылась и от старухиных глаз. Конечно, с годами тетина жертвенность стала всем привычной, ее перестали замечать, примирилась внешне и сама тетя Цецилия. Она истово молилась о смирении: видно, и у нее, бедняжки, в потайных уголках души не умерли еще человеческие чувства и страсти. Однако она потеряла себя и как личность, и как женщина. Годы ее катились к пятидесяти. Порой неистовым злобным зеленым пламенем возгоралась ее душа, и в такие минуты Цецилия бывала невменяема.