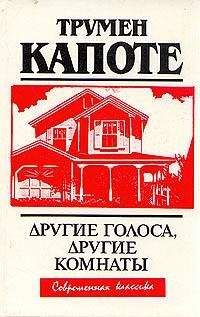Джеймс Джойс - Несчастный случай

Обзор книги Джеймс Джойс - Несчастный случай
Джеймс Джойс
Несчастный случай
*
Мистер Джеймс Даффи жил в Чепелизоде[1] потому, что хотел жить возможно дальше от города, гражданином которого он был, и потому, что все другие пригороды Дублина казались ему вульгарными, претенциозными и слишком современными. Он жил в мрачном старом доме, и из окон ему видны были заброшенный винокуренный завод и берега мелководной речки, на которой стоит Дублин. На полу его высокой комнаты не было ковра, а на стенах не висело ни одной картины. Он сам приобрел каждый предмет обстановки: черную железную кровать, железный умывальник, четыре плетеных стула, вешалку, ящик для угля, каминные щипцы с решеткой и квадратный стол с двойным пюпитром. Книжный шкаф заменяла ниша с белыми деревянными полками. Кровать была застлана белым покрывалом, в ногах ее лежал черный с красным плед. Маленькое ручное зеркальце висело над умывальником, и днем на камине стояла лампа с белым абажуром – единственное украшение комнаты. Книги на белых деревянных полках были расставлены по росту. На одном конце самой нижней полки стояло полное собрание сочинений Вордсворта, а на противоположном конце верхней – экземпляр «Мэйнутского катехизиса»[2] в коленкоровом переплете от записной книжки. На пюпитре всегда лежали письменные принадлежности. В ящике хранились рукописный перевод пьесы Гауптмана «Микаэл Крамер»[3] с ремарками, сделанными красными чернилами, и небольшая стопка листков, сколотых бронзовой скрепкой. На этих листках время от времени появлялась какая-нибудь фраза; в минуту иронического настроения на первый листок была наклеена реклама пилюль от печени. Из-под крышки пюпитра, если ее приподнять, исходил еле слышный запах – не то новых карандашей из кедрового дерева, не то клея или перезрелого яблока, которое положили там и забыли.
Мистер Даффи питал отвращение к любому проявлению физического или духовного беспорядка. Средневековый ученый сказал бы, что он родился под знаком Сатурна[4]. Лицо мистера Даффи, на котором отпечатались прожитые годы, напоминало своим коричневым цветом дублинские улицы. Длинная, довольно крупная голова поросла сухими черными волосами, рыжеватые усы едва скрывали неприятное выражение рта. Выступающие скулы также придавали его лицу жесткое выражение; но жесткости не было в глазах, которые глядели на мир из-под рыжеватых бровей с таким выражением, точно их обладатель всегда рад встретить в других людях что-нибудь искупающее их недостатки, но часто разочаровывается. Он смотрел на себя со стороны, следя за собственными поступками косым, недоверчивым взглядом. У него была странная склонность, доставлявшая ему особое удовольствие, время от времени сочинять мысленно короткие фразы о самом себе, с подлежащим в третьем лице и сказуемым в прошедшем времени. Он никогда не подавал милостыни и ходил твердым шагом, опираясь на крепкую ореховую трость.
Он уже много лет служил кассиром в частном банке на Бэггот-Стрит. Каждое утро он приезжал из Чепелизода на трамвае. В полдень шел к Дэну Бэрку завтракать – брал бутылку пива и тарелочку аррорутового печенья. В четыре часа он уходил со службы. Он обедал в столовой на Джордж-Стрит, где можно было не опасаться встреч с дублинской «золотой молодежью» и где кормили вполне прилично. Вечера он проводил или за пианино своей квартирной хозяйки, или бродя по окрестностям города. Любовь к Моцарту приводила его иногда в оперу или на концерт – это было единственным развлечением в его жизни.
Знакомые, друзья, философские системы, вера – все это было чуждо ему. Он жил своей внутренней жизнью, ни с кем не общаясь, навещая родственников на рождество и провожая их на кладбище, когда они умирали. Он отбывал эти две повинности в угоду старым традициям, но не уступал больше ни на йоту тем условностям, которые управляют общественной жизнью. Он допускал мысль, что при известных обстоятельствах мог бы даже ограбить банк, но так как эти обстоятельства не складывались, жизнь его текла размеренно – повесть без событий.
Однажды вечером в Ротонде[5] он оказался рядом с двумя дамами. Тишина и пустота в зале уныло предвещали провал. Дама подле него в кресле раза два оглянулась на пустой зал и заметила:
– Какая жалость, что сегодня мало публики! Так неприятно петь перед пустым залом.
Он принял эти слова за приглашение к разговору. Его удивило, что она держится так свободно. Беседуя с ней, он старался запечатлеть в памяти ее черты. Узнав, что девушка, сидящая рядом с ней, – ее дочь, он подумал, что эта дама, должно быть, на год или на два моложе его. Ее лицо, когда-то, вероятно, красивое, до сих пор сохранило живость. Это было продолговатое лицо с резко выраженными чертами. Темно-синие глаза смотрели пристально. Ее взгляд поначалу казался вызывающим, но вдруг зрачок расширялся и в нем проглядывала легко ранимая душа. Но вот зрачок становился маленьким, и показавшаяся было душа пряталась в скорлупу благоразумия, и каракулевая жакетка, облегавшая довольно пышную грудь, еще более подчеркивала этот вызов.
Через несколько недель он снова встретил ее в концерте на Эрлсфорт-Террес; когда дочь засмотрелась на кого-то, он улучил минуту, чтобы познакомиться ближе. Раза два она вскользь упомянула о своем муже, но в ее тоне не слышалось предостережения. Ее звали миссис Синико. Прапрадед ее мужа происходил из Ливорно. Ее муж был капитаном торгового судна, курсировавшего между Дублином и Голландией; у них был только один ребенок.
Когда он в третий раз встретил ее случайно, у него достало смелости назначить свидание. Она пришла. Это была первая встреча, за которой последовало много других, они встречались всегда по вечерам и выбирали для совместных прогулок самые тихие улицы. Но эта таинственность была противна мистеру Даффи, и когда он понял, что они могут видеться только потихоньку, попросил пригласить себя в дом. Капитан Синико поощрял его визиты, думая, что он собирается сделать предложение дочери. Он совершенно исключил жену из разряда интересных женщин и считал невозможным, что кто-нибудь может ею заинтересоваться. Муж часто бывал в отъезде, а дочь уходила на уроки музыки, мистеру Даффи представлялось много случаев бывать в обществе миссис Синико. Ни у него, ни у нее до сих пор не было приключений, и оба они не видели в этом ничего дурного. Постепенно он стал делиться с нею своими мыслями. Он давал ей книги, излагал свои идеи, впустил ее в свой мир. Она была безгранично рада.
Иногда, в ответ на его отвлеченные рассуждения, она рассказывала какой-нибудь случай из своей жизни. С почти материнской заботливостью она побуждала его раскрыть душу: она стала его исповедником. Он рассказал ей, что некоторое время ходил на собрания ирландской социалистической партии, где чувствовал себя чужим среди степенных рабочих, в каморке, освещенной тусклой керосиновой лампой. Когда партия раскололась на три фракции, каждая со своим лидером и в своей каморке, он перестал бывать на собраниях. Дискуссии рабочих были, на его взгляд, слишком примитивными, а их интерес к вопросу о заработной плате казался ему чрезмерным. Он чувствовал, что это грубые материалисты, они не умели четко излагать свои мысли: эта способность была результатом досуга, им недоступного. Социальная революция, говорил он, едва ли произойдет в Дублине и через двести – триста лет.
Она спросила, почему он не записывает свои мысли. Зачем? – ответил он с деланным пренебрежением. Чтобы соперничать с пустословами, неспособными мыслить последовательно в течение шестидесяти секунд? Чтобы подвергаться нападкам тупых мещан, которые вверяют свою мораль полицейскому, а искусство – антрепренеру?
Он часто бывал в ее маленьком коттедже под Дублином; часто они проводили вечера вдвоем. По мере того как между ними росла духовная близость, они переходили к разговорам на более интимные темы. Ее общество было как парниковая земля для тропического растения. Много раз она сидела с ним до темноты, подолгу не зажигая лампы. Темная, тихая комната, уединение, музыка, все еще звучавшая в ушах, сближали их. Это сближение воодушевляло его, сглаживало острые углы характера, обогащало эмоциями его внутреннюю жизнь. Иногда он ловил себя на том, что слушает звуки собственного голоса. Он думал, что в ее глазах возвысился чуть ли не до ангельского чина, и, по мере того как он все больше и больше привлекал к себе свою пылкую по натуре подругу, странный, безличный голос, в котором он узнавал свой собственный, все настойчивее твердил о неисцелимом одиночестве души. Мы не можем отдавать себя, говорил этот голос, мы принадлежим только себе. Беседы эти кончились тем, что однажды вечером, когда миссис Синико, судя по всему, была в необычайном возбуждении, она страстно схватила его руку и прижала к своей щеке.
Мистер Даффи был крайне изумлен. Такое толкование его слов разрушило все его иллюзии. Он не ходил к ней неделю, потом написал ей, прося разрешения встретиться. Так как он не желал, чтобы их последнее свидание тревожила мысль о разрушенной исповедальне, они встретились в маленькой кондитерской у ворот Феникс-Парка. Стояла холодная осенняя погода, но, несмотря на холод, они три часа бродили по дорожкам. Они решили не встречаться больше: всякий союз, сказал он, сулит горе. Выйдя из парка, они молча пошли к трамваю; но тут она начала сильно дрожать, и он, боясь новой вспышки с ее стороны, поспешил откланяться и оставил ее. Через несколько дней он получил пакет со своими книгами и нотами.