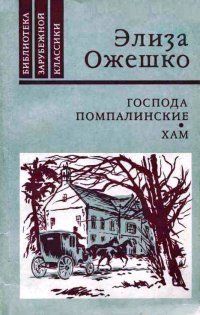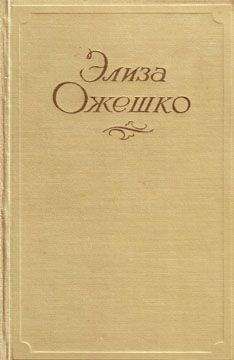Элиза Ожешко - Тадеуш
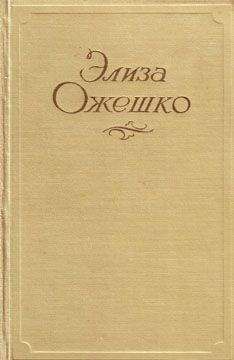
Обзор книги Элиза Ожешко - Тадеуш
Элиза Ожешко
Тадеуш
Федора, жена батрака Клеменса, подмела глиняный пол в хате, мусор сгребла в угол — выбрасывать его за порог она не считала нужным — и, высыпав картофельные очистки в ведро с помоями, поставила его под лавку — это был корм для коровы; потом она закрыла деревянной заслонкой устье печи, в которой стояли два больших горшка с обедом для всей семьи. В одном горшке был борщ из свекольной ботвы и квашеной свеклы, в другом — ячменная похлебка с картошкой. По обычаю местных крестьян, одно блюдо готовилось кислое, другое — пресное. Обедали всегда в полдень, а сейчас время было еще раннее. Но Федоре пора было уходить: она нанялась на весь день полоть огород в усадьбе. Муж ее уже с час пахал неподалеку помещичье поле под озимые.
Федора была молодая, рослая, сильная крестьянка; лицо ее и руки, загорелые и огрубевшие, еще не успели загрязниться: она только что ходила по воду и умылась у колодца. На обветренных щеках, пробиваясь сквозь загар, пылал яркий румянец. Федора не отличалась красотой — у нее был низкий лоб, маленький вздернутый нос, толстые губы, широкие плечи и большие плоские ступни, но от нее так и веяло здоровьем, силой и свежестью. На ней была короткая пестрая юбка, рубаха из небеленого холста и широкий полосатый передник, который она подвязывала домотканной тесьмой из разноцветных ниток, несколько раз обматывая ее вокруг талии. На шее Федора носила бронзовый образок, а голову покрывала красным цветастым платком; стянутый узлом на затылке, он оставлял спереди открытыми ее густые черные волосы, выгоревшие и потерявшие блеск.
Управившись с хозяйством, Федора наклонилась над стоящими на полу крынками и, переливая молоко в маленький горшочек, позвала:
— Тадеуш! Тадеуш!
Непонятно было, кого она звала: кроме нее, в хате, казалось, никого нет. Но так казалось лишь на первый взгляд. В ответ на ее зов на широком топчане, заменявшем кровать, под рядном, (большим куском небеленого холста), покрывавшим сенник и набитую сеном подушку, кто-то зашевелился. Присутствие живого существа сначала выдавал лишь шелест сена да колыханье сбившегося в складки рядна. Но вот над топчаном, жужжа, взвился рой черных мух, а из-под рядна высунулись загорелые ножки и пухлые ручонки. Наконец, край его приподнялся, и узкий луч солнца, упавший на топчан, осветил ребенка. Проснувшись, малыш первым делом запустил обе ручонки в свои всклокоченные волосы и, не то смеясь, не то плача, крикнул:
— Мама!
Не окажись матери рядом, он заголосил бы на всю избу; но она как раз направлялась к нему с горшочком молока в руках, и он предпочел громко и радостно рассмеяться:
— Мама, дай! Дай, дай!
Мальчик сидел на подушке, набитой сеном, утопая в складках рядна, а вокруг него играло солнце и жужжало великое множество мух. Его светлые, как лен, волосенки торчали во все стороны, бирюзовые глаза, казалось, все еще были затуманены сном. Вокруг пунцового рта кожа была черной, как у негра. Вчера он, наверное для забавы, вымазал жирной и липкой землей губы, подбородок и кончик носа. Только щеки каким-то чудом остались чистыми; круглые, пухлые, они рдели румянцем, розовым, как заря. Мальчуган появился на свет в сретение, и было ему от роду два года и двадцать две недели. Уже год он не сосал материнскую грудь, зато каждый день жадно припадал к горшочку, который мать держала перед ним. Вот и сейчас он с наслаждением тянул молоко, растопырив короткие пальчики, высунув из-под рядна голую коленку, и тихим посапыванием выражал свое полное удовольствие. Это и был Тадеуш.
Напившись молока, он собрался было зарыться с головой под рядно, но мать велела ему немедленно вставать, пригрозив, что побьет «дзягой». Голос у нее был сердитый, но в серых глазах теплилась нежность и уголки губ вздрагивали от смеха. Тадеуш вмиг слез с топчана и выбежал на середину избы. «Дзяга» была единственным известным ему до сих пор бедствием, омрачающим земное существование.
Выглядела «дзяга» довольно безобидно: это была та самая пестрая жесткая тесьма, которой Федора опоясывала свой могучий стан. Но стоило ей только притронуться к поясу, как Тадеуш готов был сделать все, что от него требовали. Вот и теперь он скакал по избе растрепанный, босой, в коротенькой рубашонке, с черным, запачканным землей кончиком носа и подбородком; он вертелся у ног матери, разгоняя целые тучи мух, а она тем временем плотно накрыла крынки с молоком, отрезала от целого каравая небольшой ломоть и, пряча его за пазуху, сказала:
— Ну, пошли, сынок!
— К папке?
— Нет, на огород, — ответила мать.
Отправляясь на огород или в поле, Федора всегда брала сына с собой. Да и куда же было девать его? Оставлять в хате? Но хата, когда все уходили, запиралась, а томить ребенка взаперти ей не хотелось. Бросить сына во дворе одного, чтобы он, как бездомная собачонка, ползал в крапиве, тоже было жалко. Вот она и таскала его повсюду за собой.
Однако Федоре и в голову не приходило, снаряжая сына в путь-дорогу, заняться его туалетом. Процедура умывания совершалась с неукоснительной точностью раз в неделю, в воскресное утро, и уж тогда к делу приступали необычайно энергично, привлекая на помощь лохань с водой и гребень огромной величины. Не обходилось, конечно, без криков как сына, так и матери, а порой и вмешательства «дзяги». Сегодня же была пятница, и, следовательно, рубашонка, лицо и тело мальчика не мылись шестой день и, по правде говоря, порядком загрязнились. Но что за беда! Уцепившись за материнский подол, Тадеуш бежал по двору и забавно перебирал маленькими ножками, стараясь не отставать. По пути все привлекало его внимание: петух, который, с шумом развернув огненные крылья, протяжно запел; смешные ужимки кошки, забравшейся на соломенную крышу; вереница уток, которые степенно шествовали по траве, низко опустив широкие клювы; голубь, круживший над батрацкой хатой; индюшка, сзывавшая индюшат в заросли сирени и боярышника, и старый дворовый пес Рубин с большим мохнатым хвостом. Доверчиво потершись о юбку Федоры, он с опущенной головой поплелся следом за матерью и сыном, великодушно позволяя ребенку гладить свою густую, мокрую от росы шерсть.
Алмазная роса еще сверкала на траве и кустах усадебного двора, который был погружен в тишину и, хотя его населяли птицы и животные, казался пустынным. Отсюда уже все ушли на работу. Широкие ворота хлева, конюший и овинов были плотно закрыты, лишь кое-где из трубы поднимался столб дыма, позолоченный солнцем, да оставшаяся дома хозяйка, выйдя на порог, выплескивала из ведра помои или мыльную воду на росистую траву или громко сзывала кур, чтобы бросить им горсть отрубей, каким-то образом уцелевших с прошлого года. На крепкие, наглухо запертые надворные постройки, на росистую траву, из которой торчали жесткие стебли лопуха, чертополоха и хрена, на отцветшую сирень и цветущий шиповник, на белые дорожки, бегущие в разные стороны среди зелени, низкие плетни, окружавшие двор, ниспадал, играя мириадами искр, огромный яркозолотой полог, сотканный из солнечных лучей. Неподвижный воздух пел от незримого движения листьев и незримых среди листвы птиц и насекомых.
— Господь милостив, погоду послал хорошую, — промолвила Федора, торопясь на огород.
Тадеуш ничего не ответил, он не раздумывал над тем, хороша ли погода. Он только чувствовал ее всем своим существом, и это ощущение наполняло его блаженством, изливаясь в необузданной радости и жажде движений. Отпустив подол материнской юбки, Тадеуш брыкался, как жеребенок; катался по траве; а когда мать уходила вперед, он, крича и смеясь, бросался ей вдогонку; его льняные вихры развевались по ветру, а в глазах сверкали огоньки, зажженные солнцем и счастьем. Миновав двор и выйдя на дорогу, обсаженную тополями, они внезапно остановились перед часовенкой — простой деревянной нишей на высоком каменном фундаменте — и благоговейно притихли. У Тадеуша благоговение выражалось в том, что он непомерно вытаращил глаза и широко разинул вымазанный землей рот. Но на лице его матери были написаны набожность и смирение.
В часовенке, убранной бумажными и живыми цветами, стояла старинная статуя богоматери, грубо вырезанная из дерева, с ярко раскрашенным лицом. Над головой богоматери сиял венец из посеребренной жести, и вся она с головы до пят была закутана в плащ из алого бархата, по краям обшитый золотистой тесьмой. Часовенка возвышалась над дорогой, богородица из своей ниши смотрела на усадьбу, и не найти там такого уголка, откуда не было ее видно.
Федора, покорно склонив голову, перекрестилась три раза и что-то тихо прошептала; затем, нагнувшись, взяла Тадеуша на руки и поднесла к нише.
— Боженька, — как-то боязливо проговорил ребенок.
— Ага! Перекрестись, сынок, — ответила мать.
Но Тадеуш не умел еще креститься сам, поэтому она взяла его руку в свою и, перенося ее с потного лба на обнаженную грудь мальчика, приговаривала с мольбой и смирением в голосе: