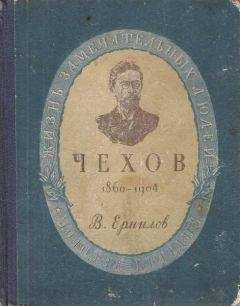Антон Чехов - Юбилей

Обзор книги Антон Чехов - Юбилей
Антон Павлович Чехов
Юбилей
В гостинице «Карс» происходило скромное торжество: актерская братия давала обед трагику Тигрову в честь его двадцатипятилетнего служения на артистическом поприще. За длинным столом заседал весь персонал за исключением одного только антрепренера, который по скупости в обеденной подписке не участвовал, но обещался приехать к концу обеда. «Уважаемый товарищ», на правах виновника торжества, сидел на самом главном месте, в кресле с высокой прямой спинкой. Он был красен, много потел, крякал, моргал глазами, вообще чувствовал себя не в своей тарелке. Волновался ли он от наплыва юбилейных чувств, или оттого, что явился к обеду, будучи уже на «седьмом взводе», понять было трудно. По правую руку его сидела grande-dame Ликанида Ивановна Свирепеева, «обже»[1] антрепренера, в черепаховом pince-nez и с щедро напудренным носом, по левую – ingйnue Софья Денисовна Унылова. От дам по обе стороны стола тянулось два ряда мужчин с бритыми физиономиями.
Перед супом, когда актеры выпили водки и закусили, поднялся резонер Бабельмандебский и произнес:
– Господа! Предлагаю выпить тост за здоровье юбиляра Василиска Африканыча Тигрова! Уррр… а… а!
Актеры рявкнули ура, поднялись с мест и повалили к юбиляру. После долгого чоканья и поцелуев, когда актеры уселись, поднялся jeune premier[2] Виоланский, человек бесталанный, но приобревший репутацию актера образованного только потому, что говорит в нос, держит у себя в номере словарь «30000 иностранных слов» и мастер говорить длинные речи.
– Уважаемый товарищ! – начал он, закатывая глаза. – Сегодня исполнилось ровно четверть столетия с того момента, когда ты вступил на тернистую стезю искусства. Да! Ты удивленно, с некоторым страхом оглядываешься на пройденный тобою путь, и я вижу, как чело твое покрывается морщинами. Да, то был страшный путь! Вдали мерцала твоя звезда… Окутанный беспросветною тьмою, ты жадно стремился к ней, а на пути твоем лежали пропасти и овраги, полные шипящих змий, амфибий и гадов.
Далее оратор сказал, что ни у кого нет столько врагов, как у актеров. Выбрасывая в воздух мысль за мыслью, он высказал, что даже посредственный актер, скромно подвизающийся где-нибудь в глуши, приносит человечеству гораздо больше пользы, чем Струве, строящий мосты, или Яблочков, выдумывающий электрическое освещение, что можно еще поспорить о том, что полезнее: театр или железные дороги? Всё более воспламеняясь, он заявил, что, не будь на земле искусств, земля обратилась бы в пустыню, что мир погибает от материализма и что на обязанности людей искусства лежит «жечь сердца» служителей золотого тельца. Чёрт знает, чего он только не говорил, и кончил тем, что погрозил окну кулаком, отшвырнул от себя салфетку и сказал, что оценить Тигрова может одно только благодарное потомство.
Когда он умолк, актеры опять рявкнули ура и, шумно поднявшись с мест, повалили к юбиляру. Виоланский три раза поцеловался с Тигровым и от лица всех товарищей поднес ему небольшой плюшевый альбом с вышитыми на нем золотою канителью литерами «В. Т.». Растроганный трагик заплакал, обнял всех обедавших, потом в сладостном изнеможении опустился в свое кресло и дрожащими пальцами стал перелистывать альбом. Во всем альбоме было около двадцати фотографий, но не было ни одной мало-мальски приличной, человеческой физиономии. Вместо лиц были какие-то рожи с кривыми ртами, приплюснутыми носами и с слишком прищуренными или неестественно выпученными глазами. Ни один галстух не сидел на месте, все рожи имели зверское выражение, а голова суфлера Пудоедова имела два контура, из которых один был плохо замазан ретушью. (Дело в том, что актеры ходили сниматься в Николин день, побывав на трех именинах, и снимал их «фотограф Дергачов из Варшавы», маленький подслеповатый человечек, занимающийся сразу тремя ремеслами: фотографией, зубодерганьем и ссудой денег под залог.)
Перед жарким говорил простак, беспаспортный актер, называющий себя Григорием Борщовым. Он вытянул шею, приложил руку к сердцу и сказал:
– Послушай, Вася… Честное мое слово… накажи меня господь, у тебя есть талант! Всякий тебе скажет, что есть… И ты далеко бы, брат, пошел, если б не эта штука (оратор щелкнул себя по шее) и если б не твой собачий характер… Чёрт тебя знает, везде ты лезешь в драку и в ссору, суешься со своей честностью куда и не нужно… Ты меня, брат, извини, но я по совести… ей-богу! Такой у тебя сволочной характер, что никакой чёрт с тобой не уживется… Это верно! Ты, брат, извини, я ведь тебя люблю… и всякий тебя любит…
Борщов потянулся и поцеловал юбиляра в щеку.
– Извини, душа моя, – продолжал он. – У тебя есть талант! Только ты не тово… не налегай на портвейн. После водки этот сиволдай – смерть!
После Борщова заговорил сам юбиляр. С вдохновенным, плачущим лицом, моргая глазами и терзая в руках носовой платок, он поднялся и начал дрожащим голосом:
– Милые и дорогие друзья мои! Позвольте мне в сей радостный день высказать перед вами всё, что накопилось тут, в груди, под сводами моего душевного здания… Пред вами старец, убеленный сединами, стоящий одною ногою в могиле… Я… я плачу. Впрочем, что такое слезы человеческие? Одна только малодушная психиатрия и больше ничего! Бодро же, старик! Прочь слезы! Не старейте, нервы! Держите перст возвышенно и прямо! Пред вами, друзья, актеришка Тигров, тот самый, который заставлял дрожать стены тридцати шести театров, тот самый, который воплощал образы Велизария, Отелло, Франца Моора! Тридцати шести городам известно имя мое… Вот!
Тигров полез в боковой карман, достал оттуда пачку трактирных счетов и потряс ею в воздухе.
– Вот доказательство! – крикнул он, гордо поднимая голову. – Счет московской гостиницы «Гранд-Отель», счет харьковской гостиницы «Бель-Вю», пензенской Варенцова, таганрогской «Европейской», саратовской «Столичной», оренбургской «Европейской», тамбовской «Гранд-Отель», архангельской «Золотой якорь» и так далее! Вот! Тридцать шесть городов! И что же?! Не проходило ни одного дня в моей жизни, чтобы я не падал жертвою гнусной интриги.
Такой переход в речи Тигрова не может показаться странным: существует закон природы, по которому русский актер, говоря даже о погоде, не может умолчать об интригах…
– Всякий, кто мог, расставлял передо мной сети ехидства и иезуитизма! – продолжал трагик, сердито вращая глазами. – Я все выскажу! Пусть волосы ваши станут дыбом, пусть кровь замерзнет в жилах и дрогнут стены, но истина пусть идет наружу! Ничего не боюсь!
Но истина не успела выйти наружу, так как отворилась дверь и в залу вошел антрепренер Фениксов-Диамантов, высокий, тощий человек с лицом отставного стряпчего и с большими кусками ваты в ушах. Вошел он, как входят вообще все российские антрепренеры: семеня ножками, потирая руки и пугливо озираясь назад, словно только что крал кур или получил хорошую встрепку от жены. Как и все антрепренеры, он имел озябший и виноватый вид, говорил противным, заискивающим тенорком и каждую минуту давал впечатление человека, куда-то спешащего и что-то забывшего.
– Здравствуй, Василиск Африканыч, – быстро заговорил он, подходя к юбиляру. – Поздравляю тебя, голубчик… Ох, замучился! Ну, дай тебе бог, понимаешь… Ведь я тебя пятнадцать лет знаю! Ведь я тебя помню, когда ты еще у Милославского служил! Ох, забегался совсем.
Диамантов пугливо огляделся и, потирая руки, сел за стол.
– Сейчас у городского головы был, – продолжал он, подозрительно оглядывая тарелки. – Приглашал меня к чаю, да я отказался… Просто замучился, бегаючи! В подписке на обед я, кажется, не участвовал, а все-таки я… водки выпью.
– Продолжай, продолжай! – замахали руками актеры, обращаясь к юбиляру.
Тигров еще больше нахмурился и заговорил:
– Ежели, господа, кому-нибудь мои слова не понравились, тот пусть выходит, но я привык правду резать и… и никакого чёрта не боюсь… Никто не смеет мне запретить говорить… Да… Что хочу, то и гово… говорю… Я свободен!
– Ну и говори!
– Я вообще желаю вам сказать, что в последние годы сценическое искусство па… пало… А почему? А потому, что оно попало в руки… (трагик сделал зверское лицо и продолжал шипящим полушёпотом)… попало в руки гнусных кулаков, презренных рррабов, погрязших в копейках, палачей искусства, созданных, чтоб пресмыкаться, а не главенствовать в храме муз! Да-а!
– Постой, постой, – перебил его Диамантов, накладывая себе в тарелку гуся с капустой. – Совсем не то! Искусство, действительно, пало, но почему? Потому что изменились взгляды! Теперь принято требовать для сцены жизненность. Мамочка моя, для сцены не нужна жизненность! Пропади она, жизненность! Ее ты увидишь везде: и в трактире, и дома, и на базаре, но для театра ты давай экспрессию! Тут экспрессия нужна!
– Кой чёрт экспрессия! Нужно, чтоб жуликов да прохвостов поменьше было, а не экспрессия! Чёрт ли в ней, в экспрессии, если актеры по целым месяцам жалованья не получают!