Марк Твен - Путешествие капитана Стормфилда в рай
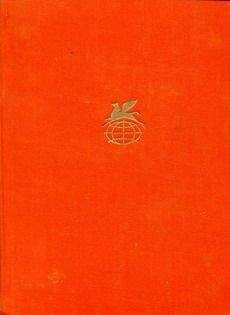
Обзор книги Марк Твен - Путешествие капитана Стормфилда в рай
Марк Твен
Путешествие капитана Стормфилда в рай
ОТ АВТОРА
С капитаном Стормфилдом я был хорошо знаком. Я совершил на его корабле три длинных морских перехода. Это был закаленный, видавший виды моряк, человек без школьного образования, с золотым сердцем, железной волей, незаурядным мужеством, несокрушимыми убеждениями и взглядами и, судя по всему, безграничной уверенностью в себе. Прямой, откровенный, общительный, привязчивый, он был честен и прост, как собака. Это был очень религиозный человек – от природы и в силу материнского воспитания; и это был изощренный и удручающий сквернослов в силу отцовского воспитания и требований профессии. Родился он на корабле своего отца [1], всю жизнь провел в море, знал берега всех стран, но ни одной страны не знал дальше берега. Когда я впервые встретился с ним, ему было шестьдесят пять лет и в его черных волосах и бороде сквозили седые нити; но годы еще не наложили своего отпечатка ни yа тело, ни на твердый характер, и огонь, горевший в его глазах, был огнем молодости. Он был чарующе обходителен, когда ему угождали, в противном же случае с ним нелегко было иметь дело.
Воображение у него было богатое, и, вероятно, это влияло на то, как он излагал факты; но если и так, сам он этого не сознавал. Он верил, что каждое его слово – правда. Когда он рассказывал мне про свои диковинные и жуткие приключения на Чертовом Пути – обширном пространстве в южной части Тихого океана, где стрелка компаса отказывается выполнять свое дело, а только крутится и крутится как сумасшедшая, – я его пожалел и скрыл свои предположения, что все это ему приснилось, потому что понял: он-то говорит всерьез; но про себя я подумал, что это было видение или сон. В глубине души я уверен, что его путешествие в Иной Мир тоже было сном, но я и тут смолчал, чтобы не обидеть его. Он был убежден, что в самом деле совершил ото путешествие; я слушал его внимательно, с его разрешения записал стенографически события каждого дня, а потом привел свои записи в порядок. Я слегка подправил его грамматику и кое-где смягчил слишком крепкие выражения; в остальном передаю его рассказ так, как слышал от него.
МАРК ТВЕН
ГЛАВА I
Я умирал, это мне было понятно. Я ловил ртом воздух, потом на долгое время затихал, а они стояли возле моей койки, молчаливые и неподвижные, дожидаясь моей кончины. Изредка они переговаривались между собой, но их слова звучали глуше и глуше, дальше и дальше. Впрочем, мне все было слышно.
Старший помощник сказал:
– Как начнется отлив, он испустит дух.
– Откуда вы это узнаете? – спросил Чипс, судовой плотник. – Здесь, посреди океана, отлива не бывает.
– Как это нет, бывает! Да все равно, так уж положено. Снова тишина – только плескали волны, скрипел корабль,
раскачивались из стороны в сторону тусклые фонари, да тоненько посвистывал в отдалении ветер. Потом я услышал откуда-то голос:
– Уже восемь склянок, сэр.
– Так держать, – сказал помощник.
– Есть, сэр.
Еще чей-то голос:
– Ветер свежеет, сэр, идет шторм.
– Приготовиться, – скомандовал помощник, – Взять рифы на топселе и бом-брамселе!
– Есть, сэр.
Через некоторое время помощник спросил:
– Ну, как он?
– Отходит, – ответил доктор. – Пускай полежит еще минут десять.
– Все приготовили, Чипс?
– Все, сэр, и парусину и ядро. Все готово.
– А Библия, отпевание?
– Не задержим, сэр.
Снова стало тихо, даже ветер свистел теперь еле-еле, будто во сне. Потом послышался голос доктора:
– Как вы думаете, он знает, что его ждет?
– Что попадет в ад? По-моему, да, знает.
– Сомнений, значит, быть не может? – Это был голос Чипса, и прозвучал он печально.
– Какое еще сомнение? – сказал помощник. – Да, он и сам на этот счет не сомневался, чего же вам еще?
– Да, – согласился Чипс, – он всегда говорил, что там его, наверное, ждут.
Долгая, томительная тишина. Потом голос доктора, глухой и далекий, словно со дна глубокого колодца:
– Все. Отошел. Ровно в двенадцать часов четырнадцать минут.
И сразу тьма. Непроглядная тьма! Я понял, что я умер.
Я почувствовал, что куда-то нырнул, и догадался, что птицей взлетаю в воздух. На миг промелькнул подо мною океан и корабль, потом стало черно, ничего не видно, и я, разрезая со свистом воздух, понесся вверх. «Я весь тут, – мелькнуло у меня в мозгу, – платье на мне, все остальное тоже, вроде как ничего не забыл. Они похоронят в океане мое чучело, вместо меня. Я-то весь тут!»
Вдруг я увидел какой-то свет и в следующее мгновение влетел в море слепящего огня, и меня понесло сквозь пламя. На моих часах было 12.22.
Знаете, что это было? Солнце. Я так и догадался, а позже моя догадка подтвердилась. Я был там через восемь минут после того, как снялся с якоря. Это помогло мне определить скорость хода: сто восемьдесят шесть тысяч миль в секунду. Почти девяносто миллионов миль за восемь минут! Ну и возгордился же я – таких гордых призраков еще свет не видел. Я радовался, как ребенок, и жалел, что не с кем здесь устроить гонки.
Не успел я это подумать, как солнце уже осталось далеко позади. Оно имеет меньше миллиона миль в диаметре, и я пролетел мимо него, не успев даже согреться. И снова попал в кромешную тьму. Да, во тьму, но сам-то я не был темным. Мое тело светилось мягким призрачным светом, и я подумал, что похож, вероятно, на светляка. Откуда исходит свет, я не мог понять, но время на часах было видно, а это самое главное.
Вдруг я заметил неподалеку свет, похожий на мой. Я обрадовался, приложил руки трубкой ко рту и окликнул:
– Эй, на корабле!
– Есть, привет вам, друг!
– Откуда?
– С Чатам-стрит.
– Куда направляетесь?
– А вы думаете, я знаю?
– Небось туда же, куда и я. Имя?
– Соломон Голдстийн. А ваше?
– Капитан Эли Стормфилд, бывший житель Фэрхейвена и Фриско. Пристраивайтесь, дружище!
Он принял мое приглашение. В компании сразу стало веселее. Я от природы общителен, терпеть не могу одиночества. Но мне с детства внушили предубеждение против евреев – знаете, как внушают всем христианам. – хотя души моей оно не затронуло, дальше головы не пошло. Но даже если бы и пошло, в тот момент оно бы исчезло, – до того я томился одиночеством и мечтал о каком-нибудь попутчике. Господи, когда летишь в… ну, словом, туда, куда я летел, снеси в тебе поубавляется и бываешь рад любому, невзирая на качество.
Мы помчались рядышком, беседуя, как старые знакомые, и это было очень приятно. Я решил, что сделаю доброе дело, если успокою Соломона и устраню все его сомнения. Когда в чем-нибудь не уверен, это всегда портит настроение, я по себе знаю. Итак, поразмыслив, я сказал ему, что, поскольку он летит со мной рядом, это доказывает, куда он летит. Вначале он был ужасно огорчен, но потом смирился, сказал, что так, пожалуй, даже лучше: ведь ангелы, конечно, не примут его в свою компанию, еще прогонят, если он попробует к ним втереться; так было в Нью-Йорке, а высшее общество, наверно, везде одинаково. Он просил меня не покидать его, когда мы прибудем в порт назначения, ему нужна моя поддержка – ведь там у него не будет никого из своих. Бедняга так меня тронул, что я пообещал остаться с ним на веки вечные.
Потом мы долго молчали; я не тревожил его, чтобы дать ему привыкнуть к новой мысли. Ему это будет полезно. Время от времени я слышал его вздохи, а потом заметил, что он плачет. Тут, признаюсь, я рассердился на него и подумал: «Типичный еврей! Пообещал какой-нибудь деревенщине сшить пиджак за четыре доллара, а теперь пожалел, мол, если бы вернулся, постарался бы всучить ему что-нибудь похуже качеством за пять. Бездушный народ, и никаких моральных принципов!» А он все плакал и всхлипывал, а я от этого еще пуще злился на него и все меньше его жалел. Под конец я уже не сдержался и сказал:
– Ну хватит! Черт с ним, с пиджаком! Выбросьте это из головы!
– Пиджа-ак?
– Ну да. Уж горевали бы о чем-нибудь важном!
– Кто вам сказал, что я горюю о пиджаке?
– О чем же еще?
– Ах, капитан, я схоронил свою маленькую дочку и теперь никогда, никогда ее не увижу! Я не переживу этого горя!
Ей-богу, он меня как ножом полоснул. Дай мне целую эскадру, я не соглашусь еще раз пережить такой стыд за свои гадкие мысли. И я в этом признался ему, покаялся перед ним и так себя ругал, так ругательски ругал, что даже его расстроил и уж перестал говорить – половины того, что хотел, не высказал. А он принялся умолять меня, чтобы я не говорил про себя таких страшных вещей и не раздувал истории, ничего, мол, я ошибся, а ошибка не преступление!
Правда, это было великодушно с его стороны? Что, нет? По-моему, да. Я считаю, что из него мог бы получиться отменный христианин, и я ему прямо это сказал. И если бы было не поздно, я бы жизни не пожалел, чтобы убедить его креститься.
Мы снова заговорили как друзья, и он уже больше не таил своей печали, а изливался мне открыто, а я слушал и слушал с открытой душой, пока она не переполнилась. Господи, какое это было горе! Он обожал свою дочку, лелеял, берег как зеницу ока. Ей было десять лет, она умерла шесть месяцев тому назад, и он был рад собственной смерти, так как надеялся на том свете снова заключить ее в объятия и больше никогда с ней не расставаться. И вот погибла его мечта. Он потерял свою дочку – навсегда. Теперь это слово приобрело новый смысл. Я был ошеломлен, подавлен. Всю жизнь мы верим, надеемся, что встретимся снова со своими умершими близкими, ни на минуту в том не сомневаемся. И это дает нам силы жить. И вот рядом со мной отец, потерявший эту надежду. Как же я не подумал? Почему не промолчал? Он бы сам потом догадался! Слезы все еще струились по его щекам, из груди рвались стоны, губы вздрагивали, и он шептал:

