Жан Жене - Дневник вора
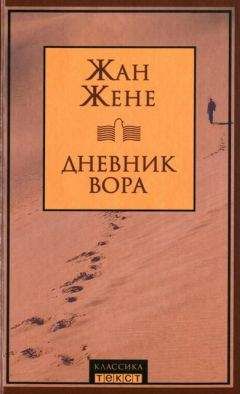
Обзор книги Жан Жене - Дневник вора
Жан Жене
Дневник вора
Сартру Кастору
Каторжники носят одежду в розовую и белую полоску. Если я сам, по велению сердца, выбрал мир, в котором мне хорошо, разве не имею я права хотя бы отыскивать в нем различные значения на собственный вкус: итак, существует тесная связь между цветами и каторжниками. Слабость и нежность первых — одной природы с грубой бесчувственностью вторых.[1] Если мне придется изображать каторжника — или преступника, — я осыплю его таким океаном цветов, что, погребенный под ними, он сам превратится в гигантский, только что раскрывшийся бутон. Я добровольно устремился к тому, что именуется злом, и это рискованное путешествие закончилось для меня в тюрьме. Мужчины, отдавшиеся злу, не всегда красивы, зато они обладают несомненными мужскими достоинствами. По собственной воле либо в силу случайного выбора, сознательно и безропотно они увязают в предосудительной позорной трясине, подобной той, в которую ввергает людей безоглядная страсть.[2] Любовные игры открывают невыразимый мир, звучащий в ночном языке любовников. На этом языке не пишут. На нем хрипло перешептываются по ночам. На рассвете его забывают. Отрицая добродетели вашего мира, преступники безнадежно готовы создать свой собственный мир. Они готовы в нем жить. Здесь стоит ужасающее зловоние, но они привыкли дышать этим воздухом. Также преступники ни в чем не похожи на вас, и в любви они отстраняются и отстраняют меня от мира с его законами. Их любовь пахнет потом, спермой и кровью. В итоге она предлагает преданность моей голодной душе и телу. Я пристрастился к злу оттого, что оно окружено такой эротической атмосферой. Моя авантюра, к которой меня никогда не толкали ни возмущение, ни протест, и по сей день остается всего лишь длительным спариванием, обремененным и осложненным тяжким эротическим церемониалом (символическими обрядами, возвещающими о каторге и сопутствующими ей). Будучи карой за гнуснейшие из злодеяний, а в моих глазах оправданием, каторга — признак предельного унижения. Эта крайняя точка людского суда представала передо мной как идеальное место для чистейшей, то бишь наимутнейшей любовной гармонии, где справляются замечательные пепельные свадьбы. Стремясь их воспеть, я использую то, что дает оболочка самых изысканных и подлинных чувств, которую создает одежда каторжников. Помимо окраски, ее ткань напоминает шероховатостью некоторые цветы с мохнатыми лепестками — этой детали достаточно, чтобы к понятию силы и срама примешалось ощущение драгоценной хрупкости. Такое сопоставление, открывающее мне глаза на себя самого, не пришло бы в голову никому другому, я же не могу без него обойтись. Таким образом я подарил каторжникам свою любовь, попытался найти для них самые ласковые имена, стыдливо прикрыть их преступления изощреннейшей из метафор (под покровом которой я не мог бы забыть о роскошной мускулатуре убийцы и неистовой силе его полового члена). Не из-за этого ли образа я предпочитаю представлять их в Гвиане: самые сильные, которые держатся особняком, самые «крутые», прикрывающиеся кисеей от москитов? Каждый цветок навевает на меня столь сильную грусть, что все они, вместе взятые, видимо, означают горе и смерть. Итак, мои поиски любви были связаны с каторгой. Каждое из моих увлечений, что заставляло меня предвидеть и предвкушать ее, бросает в мои объятия преступников, бросает меня к ним или приглашает меня к преступлению. Сейчас, когда я пишу эту книгу, последние каторжники возвращаются во Францию. Об этом нас извещают газеты. Наследник престола ощущает такую же пустоту, когда республика лишает его грядущей короны. Крах каторги не позволяет нам вступить в подземные мифические чертоги с животрепещущей совестью. Нас лишили душераздирающего зрелища: нашего исхода, погрузки на судно, шествия к морю с понурыми головами. Возвращение, то же путешествие в обратную сторону, теперь потеряло смысл. Уничтожение каторги означает для меня тягчайшее из наказаний: меня кастрируют, мне удаляют позор. Бесцеремонно обезглавив наши мечты, лишив их ореола, нас досрочно выводят из спячки. Центральные тюрьмы по-прежнему сохранили свое могущество, но теперь оно уже не то. Из их атмосферы ушло былое изящное очарование с примесью легкого смирения. Тамошний воздух стал настолько тяжелым, что все, должно быть, едва волочат ноги. Все передвигаются там ползком. В «централах» сношаются по-черному, круче и жестче; тяжелая и медленная агония каторги была движением от мерзости к более цветущей ступени развития.[3] Ныне переполненные злыми самцами, «централы» почернели от них, как от крови, насыщенной углекислым газом. (Я пишу: «почернели». Это слово навеяно одеждой заключенных — пленников, невольников или даже узников, хотя слишком большая честь величать нас подобным образом, — сшитой из бурой шерстяной ткани.) Отныне мое желание будет устремляться к «централам». Я знаю, что на каторге или в тюрьме внешность людей зачастую приобретает шутовской вид. Фигуры заключенных, возвышающихся на тяжелом гулком пьедестале деревянных башмаков, всегда кажутся немного тщедушными. Они по-дурацки сгибаются над ручными тележками. Они склоняют головы перед надзирателями и мнут в руках свои большие соломенные шляпы (мне бы хотелось, чтобы те, что помоложе, украшали их розами, украденными для них надзирателем) или бурые шерстяные береты. Они стоят в угодливых жалких позах. (Однако когда их бьют, что-то в них, видимо, распрямляется: подлец и мошенник, оказываясь в условиях еще более отъявленной подлости и коварства, ожесточаются, подобно тому, как закаляется мягкая сталь.) Что из того, что они по-прежнему раболепствуют? Не отвергая тех, кто изуродован и расхлябан, моя любовь коронует прекраснейших из преступников.
Недаром, — говорю я себе, — преступление долго колеблется, прежде чем выбрать себе безупречнейшее орудие, каким является Пилорж, он же Ангел-Солнце. Чтобы придать этим орудиям законченный вид («законченный» — какое жестокое слово!), требовалось стечение бесчисленных совпадений: красота их лиц, изящество и сила их тел должны были сочетаться с преступными наклонностями, обстоятельствами, которые делают человека преступником, силой духа, способного смириться с подобной участью, наконец, наказанием с присущей ему суровостью, которая позволяет преступнику засиять, и прежде всего с наличием темных царств. Если герой сражается с мраком и побеждает его, пусть он продолжает ходить в лохмотьях. То же сомнение, то же счастливое стечение обстоятельств необходимы для появления безупречного полицейского. Я дарю свою нежность и тем и другим. Но мне дороги их преступления, потому что они таят в себе наказание, кару (ибо я не могу представить, что они ее не предвидели. Один из них, бывший боксер Лёду, отвечал полицейским с улыбкой: «О своих преступлениях я мог бы сожалеть лишь до того, как их совершил»), которую я не прочь с ними разделить, чтобы так или иначе моя любовь оказалась счастливой.
Я не собираюсь скрывать в своем дневнике причины, побудившие меня стать вором, — самой простой из них была потребность в еде, однако ни протест, ни горечь, ни гнев нисколько не повлияли на мой выбор. Я делал ставку на риск с маниакальной «ревностной тщательностью», я готовил свою авантюру подобно тому, как готовят постель или комнату для любви: я воспылал вожделением к преступлению.
Я называю удалью дерзость, пронизанную страстью к опасности. Ее различают во взгляде, в походке, в улыбке, и она вызывает в вашей душе смятение. Она выбивает вас из колеи. Жестокость — это спокойствие, которое вас будоражит. Порой говорят: «Тот еще парень». В тонких чертах Пилоржа сквозила чудовищная жестокость. Даже само их изящество было жестоким. Жестокая удаль проступала в очертаниях единственной руки Стилитано, когда она была неподвижной и просто покоилась на столе; она тревожила и смущала этот покой. Я работал с ворами и сутенерами, авторитет которых воодушевлял меня, однако немногие из них проявляли истинную отвагу, в то время как самый храбрый — Ги — не был жесток. Стилитано, Пилорж и Михаэлис были трусами. Жава также. Даже когда они отдыхали, застыв неподвижно и улыбаясь, от них, через ноздри, глаза, рот, ладони, набухшую ширинку, грубые бугры икроножных мышц под одеялом или простыней, исходил сияющий, клубившийся паром сумрачный гнев.
Но ничто не указывает на эту жестокость так безошибочно, как отсутствие ее привычных примет. Лицо Рене прелестно, и это главное. Приплюснутая линия носа придает ему задиристый вид, не говоря о том, что свинцовая бледность его встревоженного лица внушает тревогу. Глаза его злы, движения уверенны и спокойны. В сортирах он хладнокровно колотит гомиков, обыскивает и обирает их, порой награждая, как милостью, ударом каблука по лицу. Я не люблю его, но преклоняюсь перед его спокойствием. Он творит свое дело в самую жуткую ночную пору, у дверей писсуаров, на опушках рощ и лужайках, под сенью деревьев на Елисейских полях, возле вокзалов, у ворот Майо, в Булонском лесу (по-прежнему ночью) с важным видом, чуждым всякой романтики. Когда он возвращается в два-три часа ночи, я чувствую, что приключения переполняют его. Каждый уголок его тела — руки, ладони, ноги, затылок — внес в них свою ночную лепту. Не ведая о сих чудесах, он рассказывает мне о них. Он достает из кармана ночные трофеи — перстни, обручальные кольца, часы. Он складывает их в огромный стакан, в котором скоро не останется места. Его не удивляют гомики, которые своими повадками потворствуют его грабежам. Когда он сидит на моей кровати, я выхватываю из этих рассказов обрывки его авантюр: «Офицер в кальсонах, у которого он крадет бумажник,[4] показывает ему, подняв указательный палец: „Вон отсюда!“ Насмешник Рене отвечает: „Не думай, что ты все еще в армии“. Не рассчитав сил, он огрел какого-то старика кулаком по башке; тот потерял сознание, и сгорающий от нетерпения Рене нашел в одном из ящиков запас ампул с морфием. Обчистив другого гомика до нитки, он заставляет его встать на колени.» Я чутко внимаю его рассказам. Моя антверпенская жизнь приобретает прочность, продолжаясь в более крепком теле, по звериным законам. Я поощряю Рене, даю ему советы, и он прислушивается ко мне. Я внушаю ему, чтобы он никогда не заговаривал первым.



