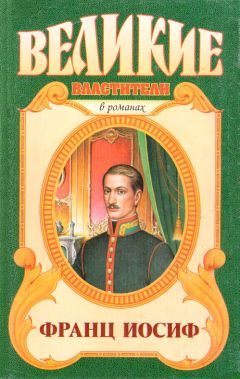Николай Гейнце - Современный самозванец
Шаферами у невесты был молодой Селезнев, а у жениха – Сергей Павлович Долинский.
Когда гости разъехались и молодые остались одни в гостиной – Анна Александровна занялась с прислугой приведением в порядок столовой – Елизавета Петровна подошла к мужу и, положив ему руки на плечи, склонилась головой ему на грудь и вдруг заплакала.
– Что с тобой, Лиза, дорогая, милая?.. – тревожно заговорил Дмитрий Павлович.
– Ничего, Митя, ничего… Это так, хорошо, хорошо…
– Что же тут хорошего – плакать?
– Не говори, молчи. Дай поплакать, это слезы счастья… Ведь всего месяц назад я не могла думать, что все так хорошо, скоро и счастливо устроится… Ведь сколько я пережила за время твоего ареста, один Бог знает это, я напрягала все свои душевные силы, чтобы казаться спокойной… Мне нужно было это спокойствие, чтобы обдумать план твоего спасения, но все-таки сомнение в исходе моих хлопот грызло мне душу… А теперь, теперь все кончено, ты мой…
Елизавета Петровна подняла голову, обвила голову мужа своими руками и впилась в него счастливым взглядом любящей женщины.
На глазах ее еще были слезы, напоминавшие капли летней росы на цветах, освещенных ярким летним утренним солнцем.
– Сокровище мое, как я люблю тебя… Сколько счастья ты уже дала мне и сколько дашь впереди…
Об обнял ее.
Губы их слились в нежном, чистом, святом поцелуе.
– Едва ли в Петербурге, что я говорю, во всем мире сыщется пара людей счастливее нас! – восторженно воскликнул он.
– Не говори так… Не сглазь… – с суеверной тревогой проговорила она.
– Такое счастье нельзя сглазить… Оно лежит не вне нас, оно не зависит ни от людей, ни от обстоятельств, оно – внутри нас, в нашем чувстве, и это счастье взаимной любви может кончиться только смертью…
Как бы подтверждая слова своего мужа, Елизавета Петровна снова склонила голову к нему на грудь и крепко прижалась к нему.
В квартире было тихо.
Разъехавшиеся из квартиры Сиротининых, из этого вновь свитого гнездышка, гости были все под тем же впечатлением будущего счастья молодых, счастья, уверенность в котором, как мы видели, жила в сердцах новобрачных.
Все уехали домой в прекрасном расположении духа, подышав этой атмосферой чистого чувства, царившего в квартире Сиротининых, и лишь в сердце Николая Герасимовича Савина нет-нет да и закипало горькое чувство.
Сердце его было, кроме того, переполнено каким-то тяжелым предчувствием.
Он не сознался бы в этом самому себе, но ему была завидна эта перспектива тихого счастья, развертывавшегося перед Сиротиниными; его, Савина, горизонт между тем заволакивался грозными тучами.
Он с грустью думал о будущем.
Ослепленные страстью глаза прозрели. Он увидал, что его новая подруга жизни из «неземного созданья» обратилась в обыкновенную хорошенькую молоденькую женщину, пустую и бессердечную (последними свойствами отличаются, за единичными исключениями, все очень хорошенькие женщины), да к тому же еще всецело подпавшую под влияние своей матери.
Капитолина Андреевна Усова через несколько дней после побега дочери явилась в «Европейскую» гостиницу, заключила в свои материнские объятия сперва свою «шалунью-дочь», как она назвала ее, а затем и Савина и благословила их на совместную жизнь.
– И молодец он у тебя, люблю таких, сразу полонил тебя, – обратилась она к сперва смущенной ее появлением, а затем обрадовавшейся дочке, – с ним не пропадешь.
Полковница осталась с «детьми», как она назвала их, пить кофе и уехала, обещая навещать и пригласив к себе.
С этого и началось.
Насколько молодая девушка была, по выражению Капитолины Андреевны, «упориста» относительно ее, настолько молодая женщина стала в руках интриганки-матери мягка, как воск.
Это видел Николай Герасимович, но был бессилен бороться с тлетворным влиянием Усовой, которую вдруг почему-то со всею силою дочерних чувств полюбила Вера Семеновна.
– Милая, добрая мама, она простила меня, – твердила молодая Усова, – как она меня любит, как была она права, говоря, что желает мне добра.
И это убеждение в высоких нравственных качествах матери было невозможно выбить из юной головки.
Влияние Капитолины Андреевны вскоре сказалось. Молодая женщина стала мотать деньги направо и налево, как бы с затаенной целью вконец разорить своего обожателя.
К чести Веры Семеновны надо сказать, что у нее самой такой цели не было, она была лишь исполнительницей ловких наущений своей матери.
Оставшиеся у Савина пятнадцать тысяч приходили к концу, и он с горечью в сердце чувствовал, что ему вскоре придется отказывать своей «Верусе», как звал он Веру Семеновну, в тех или других тратах.
Первый пыл страсти миновал, а восставший денежный вопрос способный, как известно, парализовать и последние вспышки этой страсти, заставил поневоле Николая Герасимовича делать невыгодное для Веры Семеновны сравнение с Мадлен де Межен.
Савин подчас тяжело вздыхал при этом воспоминании.
Последний поступок любящей француженки окончательно доконал его, и вместе с тем, еще более возвысил в его глазах так недавно близкую ему женщину.
В первые дни восторгов любви Николай Герасимович совершенно позабыл о своем намерении написать Мадлен де Межен об окончательном с ним разрыве.
В минуты даже кажущегося счастья человек не хочет вспоминать о тяжелых обязанностях жизни, он старается отдалить их.
Так было и с Николаем Герасимовичем, писать письмо о разрыве когда-то безумно любимой им женщине было именно этою тяжелою обязанностью.
Мадлен де Межен его предупредила, как предупредила и в вопросе о своем отъезде из Петербурга.
Через неделю после того, как он проводил ее на Николаевский вокзал, на его имя было получено заказное письмо с русским адресом, написанное писарскою рукою.
Он распечатал конверт и в письме узнал почерк Мадлен.
В письмо вложен был перевод на государственный банк в пятнадцать тысяч рублей на его имя.
Николай Герасимович побледнел при виде этой бумажки.
Он понял, что Мадлен де Межен возвращает ему его деньги.
С жадностью он стал читать письмо.
В нем молодая женщина, видимо, хладнокровно сообщала ему, что обстоятельства ее жизни изменились, что она не уезжает во Францию, а остается в России и едет в день написания письма в Одессу, где получила очень выгодный ангажемент в опереточную труппу. Деньги она возвращает, думая, что ему они понадобятся скорее, чем ей, так как она в настоящее время совершенно обеспечена.
«Возврат к прошлому, – между прочим говорилось в письме, – невозможен, так как если воспоминание об моей артистической деятельности в Петербурге, которую я предприняла исключительно для тебя, вызывало в тебе сомнения, омрачившие последние дни нашей жизни, а между тем я была относительно тебя чиста и безупречна, то о настоящем времени я в будущем уже не буду иметь право сказать этого».
«Дай Бог, – заканчивалось письмо молодой женщины, – чтобы m-lle Вера дала тебе больше счастья, нежели могла дать я, хотя искренно этого хотела. Прощай».
Письмо выпало из рук Николая Герасимовича, он откинулся на спинку кресла, стоявшего у письменного стола, за которым он сидел, и несколько минут находился в состоянии беспамятства, как бы ошеломленный ударом грома.
«Она все узнала… Теперь я понимаю ее отъезд… Но как?..» – мелькнуло у него в голове, когда он очнулся.
Он вспомнил найденное им под чернильницей письмо Веры.
«Она прочла его…» – догадался он.
Теперь только, по прочтении письма молодой женщины, он с ужасом почувствовал, что в его сердце, действительно, таилась надежда снова вернуть ее себе.
Теперь все кончено. Последние строки рокового письма – это прозрачное признанье – вырыло между ним и ею непроходимую пропасть.
Взгляд его упал на валявшийся на столе перевод.
Он выдвинул ящик письменного стола и бросил его туда.
Он решил узнать адрес Мадлен и возвратить ей ее деньги.
«Я напишу ей, – с наболевшею злобою подумал он, – что если она берет плату за настоящее, то что же мешает ей взять эту плату и за прошлое… Пятнадцать тысяч хороша плата даже для „артистки“».
Он с яростью подчеркнул мысленно последнее слово.
Но, увы, все возраставший аппетит «Веруси» к нарядам и драгоценностям заставил его вскоре изменить решение.
По переводу были получены деньги, и ко дню свадьбы Сиротинина с Дубянской от них оставалось всего около четырех тысяч рублей.
Окончательное безденежье стояло перед Савиным близким грозным призраком.
Все, что было им за последнее время пережито и переживаемо, сделало то, что, возвращаясь из квартиры молодых Сиротининых, этого гнездышка безмятежного счастья, Николай Герасимович, повторяем, чувствовал зависть, и это чувство страшною горечью наполняло его сердце.
«Разве я не мог бы точно так же быть счастливым с Мадлен?» – пронеслось в его голове.