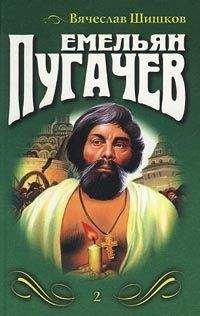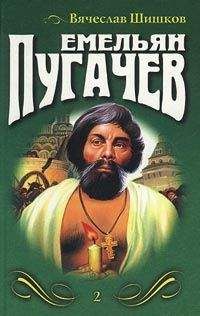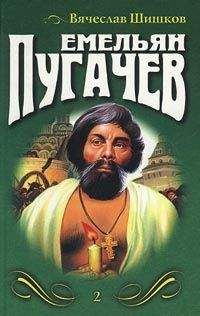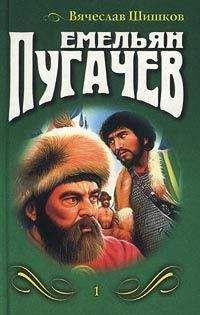Вячеслав Шишков - Емельян Пугачев (Книга 3)
И у вас многие вольности она прихлопнула…
– Мы понимаем, – протянул сотник, – да сумненье берет, мол, не выгорит ваше дело… Опоздали вы, опростоволосились… Под Оренбургом канитель на полгода развели. А теперь победные войска из Турции вертаются, сказывают – Панин да Суворов поведут их…
– Войска, брат Мелехов, загадка, бо-о-льшая загадка, – сдвигая и расправляя лохматые брови, сказал Перфильев. – И мне уповательно, что солдатская сила и за чернь вступиться может, за свою родную кость и кровь.
– Нет, господин полковник, – возразил Мелехов, – военачальники найдут способа оплести их да одурачить, солдат-то…
– Не знаю, не знаю, – растерянно протянул Перфильев, и его большие усы на бритом шадривом лице недружелюбно встопорщились.
Когда проиграли зорю и смолкли барабаны, в палатку государя были позваны сотник Мелехов с хорунжими Малаховым, Поповым, Колобродовым. Все они рослые, молодые и нарядные. В палатке был накрыт ужин. Кроме казаков, присутствовала и государева свита.
Емельян Иваныч был в приподнятом душевном настроении: ведь заваривается дело не шуточное – кладется пробный начал дружбы между воюющей народной армией и вольным Доном. Эх, если б да сбылись мечты Емельяна Пугачёва.
Когда выпили по две чарки водки, Пугачёв ласково сказал:
– Пейте, детушки, не чваньтесь, да служите мне и делу нашему верно.
(Казаки поклонились.) Какое вы получаете жалованье от государыни?
– Мы от всемилостивейшей нашей государыни жалованьем довольны, – ответили донцы.
– Хоть вы и довольны, – наполняя чары, сказал Пугачёв, – да этого и на седло мало, не токмо на лошадь. Вы, детушки, послужите у меня, не то увидите, я прямо озолочу вас… Ведь в Донском войске господа жалованье-то съедают ваше, а вам-то, бедным, уж оглодочки.
Донцы слушали со вниманием, утвердительно кивая головами, а сами все приглядывались к Пугачёву, все приглядывались.
Пугачёв держал себя настороженно, в свою очередь наблюдая за молодыми донцами. Он поднял серебряный кубок с изображением императрицы Анны Иоанновны и сказал:
– Вот эта чара мне в наследство досталась от бабки моей царицы Анны.
Ну, выпьем со свиданьицем да и закусим. Берите, молодцы, свинину-то, ешьте! Слышь, Анфиса! – обратился он к прислуживающей у стола женщине:
– угощают ли казаков-то во дворе?
– Угощают, угощают, батюшка, – ответила она и повела черными крутыми бровями в сторону Горбатова. – Ермилка из кухни от Ненилы то и дело пироги таскает им да всякого кусу.
– Угощают, заспокойся, государь, – подтвердила и свита.
Гости и сподвижники Пугачёва любовались на Анфису, в особенности Иван Александрович Творогов: она походила на его жену, красавицу Стешу. Одетая в голубое фасонистое с черным бархатом платье, Анфиса сверкала своей русской красотой, молодостью и дородством. Она казанская пленница, черничка старообрядческой часовни, своей вольной волей пожелала идти за «батюшкой» хотя бы до нижегородских керженских лесов, чтоб перебраться в женский скит, где у нее имеется подружка, но «батюшка», не дойдя до керженских лесов, свернул на юг, ну что ж – на все воля божия – Анфиса без особой грусти так и осталась у него. Она, сирота разорившегося купеческого рода, обихаживает обожаемого «батюшку» и досматривает за ребятами его погибшего дружка, какого-то Емельяна Пугачёва.
– Был я, други мои, в Египте три года, – продолжал Емельян Иваныч, обращаясь к донцам, – и в Царьграде года с два, и у папы римского сидел сколько-то в укрытии, от недругов своих спасаясь, так уж я все чужестранные примеры-то вызнал, там не так, как у нас. А ведь вас, сирых, наши высшие-то власти, вздурясь, объегорили. Полковников вам посадили, да ротмистров, да комендантов. И многих привилегий казацких лишили. Эвот бороды скоблить заставили да волосья на прусский манер стригут. А вот я воссяду на престол, все вам верну да и с надбавкой. И вы всю волю, всю землю получите, с реками, рыбой, лугами и угодьями, и будете в моем царстве первыми. И взмыслили мы всю Россию устроить по-казацки. Чтобы царь да народ простой империей правил. И чтобы всяк был равен всякому. А господишек я выведу, и всех приспешников выведу! – все громче и громче звучал голос Пугачёва. – Ни Гришек Орловых, ни Потемкиных у меня не будет… Только поддержите меня, детушки, не спокиньте на полдороге… Эх, наступит пора-времечко… – Пугачёв поднялся, распрямил грудь, тряхнул плечами, зашагал по обширной палатке. – Наступит пора-времечко… И пройдусь я улицей широкой, да так пройдусь, что в Москве аукнется. – При этом он выразительно взмахнул рукой, остановился и вперил взор в безбородые лица донцов. – Ну, детушки, радостно сей день у меня на сердце… Горбатов, наполни-ка чарочки… Выпьем за вольный Дон, за всех казаков! Воцарюсь, Запорожскую Сечу опять учрежду; Катька повалила ее, а я сызнова устрою. – И обратясь к казакам:
– Ну, а как, други, казачество-то?
Склонно ли оно ко мне пойти и что промеж себя говорят люди?
– А кто его знает, – с застенчивостью и некоторой робостью отвечали гости с Дону:
– Мы, конешно, слышали, что наказной атаман Сулин сформировал три полка для подкрепления верховых станиц. И приказано как можно поспешнее следовать им к Царицыну. Только не ведаем, будет ли из этого какой толк…
– Для нашего дела, альбо для казаков толк-то? – по-хитрому поставил Пугачёв вопрос.
Гости смутились. Сотник Мелехов, виляя глазами, ответил:
– Да, конешно, казаки с войны вернулись, им охота трохи-трохи дома побыть, а их вот опять на конь сажают… Ну, конешно, пошумливает бедность-то, ей не по нраву…
– Пошумливает? – спросил Пугачёв, прищурив правый глаз.
– Пошумливает, – подтвердили хорунжие.
Выпили еще по чарке, и Пугачёв сказал:
– Ну, донцы-молодцы, приходите ко мне за-всяко-просто, утром и вечером, если надобность в том встретится. А завтра – на обед.
Он велел позвать Ненилу и молвил ей:
– Вот что, Ненилушка, ты к обеду состряпай-ка нам, как мой императорский повар француз делывал, этакое что-либо фасонистое, чтобы год во сне снилось… Ась? Трю-трю зовется…
– Да зна-а-а-ю, – протянула Ненила, прикрывая шалью тугой живот. – Редьку, что ли?
– Редьку?! Дура… Этакая ты лошадь дядина… Благородства не понимаешь… – Пугачёв на миг задумался, сглотнул слюну и молвил:
– Хм…
А знаешь что? Давай редьку! Ты натри поболе редьки с хреном, да густой сметанки положи, ну еще лучку толченого…
– Да зна-а-а-ю, – снова протянула Ненила, почесывая под пазухой. А стоявшая сзади Горбатова Анфиса хихикнула в горсть и отерла малиновые губы платочком.
– А ты слушай… – прикрикнул на Ненилу Емельян Иваныч. – Ну, крутых яичек еще подбрось. А самоглавнейшее – как можно боле крошеных селедочек ввали, кои пожирней. Ну, конечное дело, сверху – квас. Да чтобы квас холодный был, с кислинкой… И Емельян Иваныч подмигнул донцам.
Один из них, курносый и веселый, спросил:
– А где же повар-то у вас французский, ваше величество?
– Да его, толстобрюхого, чуешь, мои яицкие вздернули. Величался все, я-ста да я-ста. У нас-де во Франции все хорошо, у вас все яман. Ну, те смотрели, смотрели, обидно показалось им, крикнули: «Ах ты, мирсит твою», да и петлю на шею.
Казаки опять переглянулись.
Вскоре Пугачёв простился с гостями и пожелал им покойной ночи.
Невдалеке от царской палатки гремели донские песни, шли плясы, подвыпившая полсотня донцов веселилась у костра. Девочка Акулечка, любовавшаяся плясунами, сидела на плече у Миши Маленького, как в кресле.
– Ну, господа атаманы, начал положен, – сказал Пугачёв по уходе донцов и перекрестился. – Авось, по проторенному путику и другие-прочие донцы-молодцы прилепятся к нашему самодержавству…
Атаманы промолчали. Анфиса глаз не спускала с мужественного, красивого Горбатова, ловила его взор, но он не обращал на нее ни малейшего внимания. Овчинников, катая из хлеба шарик, сказал:
– Мнится мне, как бы они не переметнулись… По всему видать – они из богатеньких. Седельца-то у них с серебряной чеканкой, у всей полсотни. Да и сабельки-то – залюбуешься.
– Да уж чего тут… – буркнул Чумаков в большую бороду. – Известно, бедноту по наши души не пошлют.
Впоследствии так оно и вышло.
Захватив с собою девять пушек, порох, свинец и триста сорок человек команды, набранной услужливым новым воеводою Юматовым, Пугачёв 5 августа со всею армией выступил из Петровска по дороге к Саратову.
2
Крестьянское движение, распространившееся по всему широкому Поволжью, никогда и нигде не возникало с такой мощной силой, как теперь, в августе 1774 года.
Повстанческие отряды почти одновременно появились в Нижегородском, Козмодемьянском, Свияжском, Чебоксарском, Ядринском, Курмышском, Алатырском, Пензенском, Саранском, Арзамасском, Темниковском, Щацком, Керенском, Краснослободском, Нижнеломовском, Борисоглебском, Хоперском, Тамбовском и других уездах, а также городах Нижегородской, Казанской и Воронежской губерний.