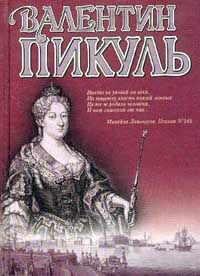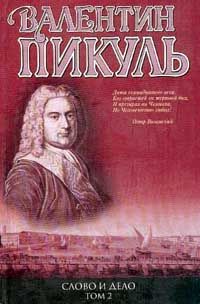Валентин Пикуль - Слово и дело. Книга 1. «Царица престрашного зраку»
— Только давай, матушка, иногда меняться. Мне иной раз от дурости моей тяжко, а ты от ума великого часто погибаешь…
— Но-но мне! — пригрозила императрица.
— Вот и гром раздался вроде, — прислушался Балакирев.
Анна Иоанновна ему оплеуху для начала — раз!
— Вот и молния сверкнула, — сказал Балакирев… Чтобы его в покое оставили, начал он хвастать про дядю своего — Гаврилу Семеновича Балакирева, что ныне (драгун в отставке) имеет свое жительство в сельце Маковицы по уезду Коломенскому.
— А что? — оживилась императрица. — Весел ли он?
— Я перед ним — отставной козы барабанщик… Анна Иоанновна велела дядю Балакирева звать ко двору на кошт казенный. От вызовов таких многие умирали в дороге (от страху).
— А чтобы нашей милости он не пужался, — сказала Анна, — предупредите: худого не будет, лишь хорошее. Для веселья, мол, надобен!
Вытащили из глухой провинции старого драгуна, заросшего сивым волосом. Велели ему не пужаться. Привезли. Весть о новом шуте, который весельем своим забьет племянника, облетела придворных. Заранее собрались во дворец, как в театр. Вот ввели старого драгуна в апартаменты, Анна Иоанновна на кровать легла, а Лакосте и князю Никите Волконскому крикнула:
— Эй, лодыри! Рвите его… для азарту!
Кинулись шуты на старого Балакирева и стали рвать с него штаны. Но драгун оказался опытен: он шутов сокрушил и, за поясок себя держа, отвечал императрице без боязни:
— Великая государыня, неужли только на то и звала меня, чтобы штанов последних лишить? Ты штаны с меня, как и крест божий, податьми не облагай. Вторых мне не справить уже! Потому как проелись мы с мужиками дочиста…
Анна захохотала, и все вокруг нее тоже.
— А ты и впрямь весел, — похвалила императрица. — Ну-ка, подпусти еще перцу. Тогда я тебе сукна на вторые штаны выдам…
— Эх, матушка! — огляделся старый Балакирев. — Что там с перцем? Могу и с собачьим сердцем. Да жаль полно немцев!
Снова хохотали. Но Анна Иоанновна нахмурилась:
— Ладно, распотешь нас. Расскажи про свое отставное житие. Сколько рубах носишь? Каково сено косишь?
— Эх, великая государыня, плохое житьишко настало. Обнищал мужик на деревне. Правежи да плети, да пустые клети… Не ведают, чай, министры твои, что беден мужик — бедно и государство. Коли богат мужик — и государство богато станется. Истина проста!
Хохот разбирал придворных, но Анна не улыбнулась:
— Коли веселых баек не знаешь, так хоть про разбойников расскажи нам… Бывают ли они у вас в уезде? Гаврила Семенович Балакирев ответил ей:
— Кака же Русь без разбойников? Коли правители да воеводы разбойничают, так и простой народ, под стать им, на большую дорогу выходит. Да кистенем нам, грешным, во тьме путь освещает. И чем более холопы твои, матушка, народ грабят, тем более звереет народ простой, и к труду его не преклонишь… Вор на воре!
Анна Иоанновна с постели соскочила, рукава поддернула:
— Мы тебя для веселья звали! Не пойму я шуток твоих: то ли весел ты, то ли злишься?.. Государи за весельем к шутам прибегают, а ума чужого им не надобно… Своего у нас полно!
— Не всегда, матушка, — отвечал старик. — Аль не слыхала ты, что государи за мудростью к философам бегать стали? Вот только не было еще примера такого, чтобы философ за мудростью к государям бегал…
— Бит будешь! — крикнула Анна, побагровев.
— За што? — изумился драгун в отставке…
Анна Иоанновна глазами Ушакова в толпе выискала:
— Андрей Иваныч, сведи гостя моего на кухню. Пусть его от стола моего накормят до отвала. Да пущай сразу же к себе в деревню обратно уползает. И в городах моих чтобы не жил — у него язык больно поганый, плевелы округ себя сеет!..[21]
Иван Емельянович Балакирев противу воли своей был оставлен в шутах при дворе. Пришел он как-то, по должности своей, в приемную камору, а там уже придворные собрались. Здесь и Остерман был, который на болезнь свою жаловался.
— Подагра столь измучила меня, — говорил, стеная, — что не могу я ни стоять, ни лежать, ни сидеть, ни ходить…
— А ты висеть не пробовал? — любезно спросил его Балакирев. — У повешенных любая подагра сразу проходит…
Потом, готовясь к выходу царицы, заспорили в уголке Рейнгольд Левенвольде с генералом Ушаковым — кому в церемонии впереди следовать.
— Вору всегда надо первым идти, — сказал Балакирев. — А палачу за вором неотступно следовать… Такой уж порядок!
Вышел из покоев императрицы граф Бирен, улыбнулся всем ласково. Князь Александр Куракин с Трубецким заспорили — кому из них Бирен улыбнулся.
Балакирев прислушался к их спору и заявил громко:
— Всегда собаки из-за кости дерутся. Но впервые вижу, чтобы две кости из-за одной собаки дрались…
Вот уже и пять врагов у Балакирева — да еще какие враги!
К вечеру за все «штрафы» он в караульне десять палок получил. Потом на кухню пошел; там ему припасов от царского стола выдали. И поехал Иван Емельянович со спокойной совестью домой — семью кормить!
По дороге встретилась ему карета, а в ней княгиня Троекурова.
— Ой, — пискнула, — я вас где-то видела недавно!
— Ваша правда, — отвечал Балакирев. — Я там, где вы меня видели, частенько бываю… Нно-о, кобыла моя! Чего уставилась? Или подругу свою повстречала?
* * *Маслов проснулся засветло. Дунька, рябая умница, из постели дремно смотрела, как муж суетно кафтан натягивает, шпагу нацепляет. Не сыт, не мыт — в Сенат!
— Забодают тебя господа высокие, — пригорюнилась.
— Не каркай! — отвечал. — Они бодаться горазды, а у меня рогов нетути. Я рогами самого графа Бирена их бодать стану…
Вот и сегодня: бумаги важные из Смоленска получены; там, в губернии Смоленской, траву едят и колоду гнилую. А в Переславле-Рязанском купечество столь доимками выжато, что и бургомистра выбрать не могут: торговцы дома свои заколотили и разбежались. Дело ли это? Без купечества городу любому — гроб с крышкой… По дороге завернул Маслов в Тайную розыскных дел канцелярию, где седенький, сытенький Ушаков, рано восстав, уже акафисты сладкие распевал.
— Андрей Иваныч, — сказал ему Маслов, — ты Татищева шибко не рви: он отечеству большую выгоду принесть способен.
— На все воля божия, — отвечал Ушаков. — Никитич в винах, и рвать его… не порвать! А на што он тебе сдался, прокурор?
— Надобно промыслы горные умножать, а Татищев дока в минералах. Моя бы власть, так я бы с него украденное взыскал, а инквизицию к миру б привел. Да и перечеканку монет иноземных на русский манир — кому, как не ему, доверить?
— Доверь… козлу капусту, — ответил Ушаков. — Он тебе из этих монет скрадет еще больше… Ты, Анисим Ляксандрыч, мои дела не трогай. Хоша ты и обер-прокурор, но у меня в пытошных своих прокуроров достаточно. Што ты пришел в утрях самых и наказы мне учиняешь? Сенат, Кабинет, Коллегии — все это мирское, от меня далече. Канцелярия тайная — вроде Синода Святейшего: я охотник до душ людских! Я здесь сердца людские с огня познаю. Инквизиция государева от государства отделена, но таким побытом: нет Рима без папы римского, как нет России без «слова и дела»…
Маслов далее покатил, зубами щелкнув: так бы и рванул всех, словно волк, Ушакова и прочих… «Одначе, — размышлял дорогой, — надо хитрее быть. Эвон Волынский-то как! Его не раскусишь: улыбнется он тебе, отвернись — и враз по затылку кистенем хватит, уже не встанешь…»
— Господа высокий Сенат притащились? — спросив он у секретаря Севергина. — На сей день сколько особ будет в совещаниях?
— Трое, — отвечал Севергин, вставая покорно.
— Вот и всегда так: в Сенате трое, в Кабинете трое, и только один я за всех должен о нуждах крестьянских помышлять…
Грозны и слезливы дела доимочные: по стране теперь ехать страшно, будто Мамай войною прошел. Избы деревень заколочены, в пыли ползают нищие, пастух коровенок с десять выгонит утром в поле… Разве же это стадо? И, ничего не страшась, Маслов всюду говорил так: «Петербург, будто зверь яростный, все соки из страны высасывает. На пиры да в забаву себе. Да чтобы пыль в глаза иноземным посольствам пускать. Но Петербург — еще не Россия! Россия — это вся Россия, и мужик ее — в первую голову и есть сама Россия…» Сенаторам он дел накидал (до вечера не разберутся), а сам отбыл в Зимний дворец. И — прямо в Кабинет императрицы; Иоганн Эйхлер руки раскинул, его не пропуская.
— Нельзя, — говорил Иогашка, — там ныне дела важные…
Маслов кабинет-секретаря отшиб со словами:
— Нет дел важнее, паче мужицких — дел голодных! В Кабинет прошел, гневный, а там — все министры: Остерман, Черкасский, Головкин; обер-прокурор начал при них такую беседу:
— И не стыдно тебе, бессовестный князь Черкасский? Доколе же ты, в тройке сей главной, будешь над мужиком глумиться?