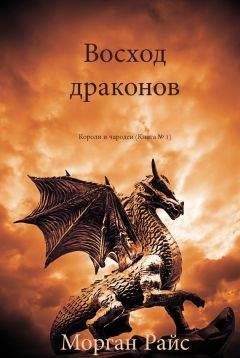Юрий Тынянов - Пушкин
Здесь дремлет юноша-мудрец,
Питомец нег и Аполлона.
Он грыз перья, зачеркивал, бродил по лицею, вскакивал иногда по ночам с постели, чтобы записать стих – о лени.
Каждое утро, подбирая оглодки гусиных перьев, Фома удивлялся:
– Опять гуси прилетели.
Мудрец жил, наслаждался и умирал с одинаковой легкостью, почти безразличием; он играл на простой свирели, или цевнице, по поводу которой поднялся у Александра с Кюхлей спор: что такое цевница? Поспорив, они с удивлением заметили, что никто из них хорошенько не мог себе представить, какой вид имеет цевница. Кюхля наотрез отказался считать ее простой пастушеской дудкой.
Мудрец любил; его любовь и томление кончались смертью, легкой и ничем не отличавшейся от сна.
Когда он встретил в зале приехавшую к брату молоденькую, очень затянутую, очень стройную Бакунину, он понял, что влюблен.
Это было вовсе не похоже на то, что он испытывал, гоняясь за горничной Наташей или смотря на оперу, в которой пела надтреснутым голоском другая Наталья (которую он никогда не называл Наташей). Это была очень сильная любовь, но только издали. Горничную Наташу он так и называл в стихах: Наташа, а Наталью – Натальей. Бакунину же он назвал Эвелиной, как прекрасную любовницу Парни звали Элеонорой. Эвелине можно было писать только элегии.
Потребность видеть ее стала у него привычкой – хоть не ее, хоть край платья, которое мелькнуло из-за деревьев. Раз он увидел ее в черном платье, она шла мимо лицея, с кем-то разговаривая. Он был счастлив три минуты – пока она не завернула за угол. Черное платье очень шло ей. Ночью он долго не ложился, глядя на деревья, из-за которых она показалась. Он написал стихи о смерти, которая присела у его порога, – в черном платье. Он прочел их и сам испугался этой тоски – он знал, что это воображаемая тоска и воображаемая смерть, – от этого стихи были еще печальнее. Он удивился бы, если бы обнаружил, что хочет ее только видеть, а не говорить с нею. Что бы он сказал ей? И чем дальше шло время, тем встреча становилась все более невозможной и даже ненужной. Он по ночам томился и вздыхал.
Однажды, вздохнув, он остановился. За стеной он услышал точно такой же вздох. Пущин не спал.
Александр заговорил с ним. Жанно неохотно признался, что вот уже две недели как влюблен и это мешает ему спать. Через две минуты Александр узнал с удивлением, что он влюблен в ту же Эвелину, то есть Екатерину, в Бакунину.
Странное дело, он не рассердился и не подумал ревновать. С любопытством он слушал Жанно, поторый жаловался на то, что Бакунина редко показывается. Назавтра Пущин, весь красный, сунул ему листок и потребовал прочесть. Александр прочел листок. Это было послание, довольно легкое по стиху. В послании говорилось о том, что стихи впервые написаны по приказу – приказу прекрасной. Стихи были, конечно, не Кюхли: Кюхля писал только о дружбе и об осенней буре; и не Дельвига, который теперь называл себя в стихах стариком, старцем, Нестором. Пущин настаивал на том, что это был Илличевский, длинный, как верста. Пущина огорчали первые строки: написано по приказу – значит, они встречались?
Александр с удовольствием на него поглядел. Все трое полюбили одну, и при этом одновременно. Это было удивительно. Илличевскому он ничего не сказал, но когда тот унылой тенью бродил по коридору, он подолгу следил за ним.
Потом они однажды столкнулись все трое, лбом ко лбу: Пущин, Илличевский и он. Илличевский остолбенел и долго смотрел на них разиня рот, пока не убедился, что открыт.
Потом он огорчился тем, что Пушкин и Пущин так громко и долго смеются.
Александр по-прежнему был счастлив, когда видел Бакунину, он подстерегал ее, но ночные вздохи стали все реже. Он спал теперь спокойно, ровно, не просыпаясь до утра. Однажды ему стало вдруг по-настоящему грустно; он так и не увиделся с нею; он больше не хотел и почти боялся встретить ее; может быть, он не любил ее и раньше. Он отложил стихи к ней и постарался как можно реже о ней вспоминать.
4
Он знал, что его стихи лучше дядюшкиных – Василью Львовичу такие стихи решительно не давались; от смерти, которая присела у порога, не отказался бы и сам Батюшков. Воображаемый глиняный кувшин с прозрачною водою – графин, стоящий на простом столе-конторке, окно, дева; такова была любовь и смерть молодого мудреца, затворника, ленивца; сны, мечтания. Теперь он не был более инвалид с балалайкой или монах. Он был мудрец.
Все старшие хотели такой жизни. Этот мудрец и ленивец очень нравился Горчакову. Горчаков прилежно, высунув кончик розового языка, переписывал теперь все его стихи. Глаза его слегка туманились; казалось, Горчакову льстят эти стихи. Этот мудрец, любимый Аполлоном, казался ему в меру весел, в меру холоден, ветрен, ни дать ни взять сам Горчаков. Александр не любил, когда Горчаков переписывал его стихи, похваливая.
Новый директор однажды протянул ему листок со стихами, который случайно ему попался: это были его стихи.
Директор одобрил эти стихи. Он улыбнулся ему как сообщник, с видом слегка мечтательным, немного грустным, его бледно-голубые глаза стали томны, широкий рот осклабился.
Директор долго ждал этого случая и очень недурно прочел четверостишие, потом другое. Он запомнил: стихи лицейского поэта.
Пушкин вдруг скрипнул зубами, повернулся и зашагал от него. Директор посмотрел ему вслед; широкий рот сомкнулся, блаженные глаза остановились. Он заложил руку за спину и медленно проследовал к себе в кабинет.
Нет, он не был мудрец, ленивец.
После отъезда Карамзина, дяди, Вяземского он бродил целый вечер с раздутыми ноздрями, со странной решительностью, в самозабвении, и Данзас с карандашом в руке, сдержав дыхание, приглядывался к нему и быстро рисовал, но так и не мог совладать и бросил начатый рисунок. Подошел Миша Яковлев, и он объяснил ему: он хотел нарисовать Пушкина обезьяною, сочиняющею стихи, – и не вышло: получился Вольтер, не было никакого сходства. Но так как Пушкин – помесь обезьяны с тигром, то он хотел потом нарисовать его в виде тигра, готовящегося к прыжку; сходство было, все шло хорошо, но, к сожалению, получился настоящий тигр.
Он в самом деле как бы готовился к прыжку: со странной рассеянностью, внезапным и коротким смехом, с отсутствующими глазами. «Арзамас» ждал его. Он с жадностью угадывал тот миг, когда дядя – староста «Арзамаса» – предоставит ему слово. Он не знал еще, что скажет, но предчувствовал все, что ему ответят.
В эту ночь он просыпался с бьющимся сердцем – он чувствовал себя обреченным; Карамзин и Вяземский чего-то ждали от него. Кругом была война, война против вкуса , против поэзии, против ума, против Карамзина и Жуковского. Какие-то старики с варварским языком, с повадками сказочных дедов, приказные, дьячки копошились в «Беседе» и строили козни.
Он никого из них не знал. Самого страшного из этого собора, Шаховского, который осмеял в пиесе Жуковского, «Беседа» венчала лавровым венком. Дашков написал кантату «Венчанье Шутовскова». Вяземский прислал ему кантату. Александр всю ее списал. Этот Шутовской был немного другого складу, чем его товарищи по «Беседе» – тоже на букву Ш – Шишков и Шихматов. Он был остер, и Вяземский сказал, что ненавистная пиеса, в которой был осмеян Жуковский, была смешна и имела громкий успех у райка. Тем хуже для него! Его обвинили в том, что он – причина смерти благородного Озерова, он не принял его пиесы, зарезал ее, будучи директором театра, и Озеров в безумии умер. Это было преступлением, требовавшим мести. Враги смеялись над элегиями Жуковского, над тонкостью Карамзина, над легкостью дяди Василья Львовича. Бородачи смеялись над здравым смыслом. Он не читал, да и не собирался читать их допотопные поэмы, их раскольничьи акафисты, их визгливые варяжские стихи, которые они называли одами. Он был потомственный враг дьячков, варваров, церковной славянщины. Война! Безбожно было держать его – со страстями, с сердцем – взаперти и не позволять участвовать даже в невинном удовольствии погребать эту Беседу губителей русского слова! (Любителей давно прозвали губителями.) И покойную Академию, в орденах, звездах и лентах!
Война!
Здесь, в Царском Селе, он не мог участвовать на заседаниях «Арзамаса», кушать достославного арзамасского гуся. Но зато однажды он видел наклонную тень простого генерала, невзрачно одетого, уныло шедшего вдоль дворца вместе с тучным комендантом.
У генерала был мясистый нос, отвислые, разинутые губы штабного писаря; он остановился и гнусавым голосом дьячка что-то сказал коменданту. И по тому, как вытянулся и затрепетал тучный комендант, он понял: Аракчеев. Тусклыми глазами осмотрев все кругом, заложив руку за спину, не заметив, казалось, ни статуй, ни колонн, ни всего этого места с его старою славою, генерал, выпрямив грудь, проследовал во дворец.
В руках у Александра было перо, он грыз его, писал стихи о прекрасной любовнице, которой не знал. И он посмотрел кругом: гнусавый генерал, комендант наполнили страшными буднями этот сад, кругом не было ни женщин, ни стихов. Он спрятал в карман листок со стихами.