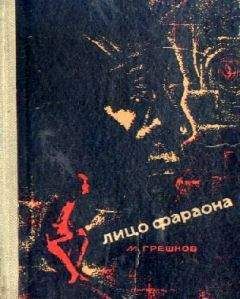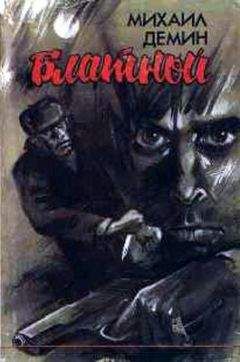Савва Дангулов - Дипломаты
— У аппарата наркоминдел Чичерин.
— У аппарата уполномоченный Наркоминдела Репнин.
Аппарат умолк на минуту. Репнин словно увидел, как Георгий Васильевич пододвинул блокнот и быстро обозначил вопросы к Репнину: первый, второй, третий… Ничего не забыть, все выяснить, хотя времени в обрез — на столе лежит неоконченное письмо Воровскому в Берлин (Вацлав Вацлавович выехал туда третьего дня по оперативным делам Наркоминдела), дипломатическая почта уходит утром.
Чичерин. Как вас встретила Вологда? Как встретил Кедров? Кого видели из дипломатов?
Репнин. Вологда и Кедров были гостеприимны. Сегодня вечером говорил с Френсисом.
Ну конечно, Георгий Васильевич отодвинул неоконченное письмо Воровскому и, быть может, перевернул страницу — она отвлекает.
Чичерин. Не находите ли вы, что позиции Френсиса и Нуланса тождественны?
Репнин. В главном — да. В деталях — нет.
Георгий Васильевич выдернул страничку с вопросами и положил перед собой, блокнот передвинул ближе — все существенное надо записать.
Чичерин. В деталях? Каких именно? Распространяется ли это на вопрос о переезде в Москву?
Репнин. Несомненно. Как мне кажется. Нуланс отвергает эту перспективу категоричнее и решительнее, чем Френсис.
Чичерин. Тогда какова позиция Френсиса? Что в ней для нас привлекательно? Как нам надо себя вести? Коротко.
Какова же все-таки позиция Френсиса? Да есть ли разница во мнениях Нуланса и, Френсиса? Очевидно, есть. Но какая? Быстро и коротко… Коротко, коротко!
Репнин. Френсис не отвергает перспективу переезда дипломатов в Москву. Возможно, из тактических соображений. В какой мере это искренне, покажут события этих дней.
Чичерин. Вы сказали, события? Что вы имеете в виду?
Ах, эта жесткая интонация разговора по прямому проводу. Аппарат выморозил все, что копилось в отношениях между людьми годы и годы. Начисто выморозил и обратил в железо, от прикосновения к которому кожа сползает с рук. Будь это даже просто разговор по телефону, появились бы и тепло, и темп, и интонация, и объемность живой речи. Нет, это только так казалось, что железный стук аппарата имеет разумную интонацию.
Репнин. Очевидно, события в Ярославле.
Аппарат сомкнул уста. Он удерживает молчание человека, который задумался в эту минуту.
Чичерин. А не полагаете ли вы, что Френсис наводит вас на ложный след, внушает неоправданные иллюзии, чтобы сковать энергию и выиграть время?
Николай Алексеевич задумался.
Репнин. Не исключен и такой вариант.
Чичерин. Как думаете вести себя? Ждать или действовать?
Репнин. Действовать.
Чичерин. Тогда как?
Непросто ответить Репнину на этот вопрос. Если бы можно было встать и пройти из одного конца аппаратной в другой. Где-то в конце вагона настенные часы бьют одиннадцать. Наверно, и в кабинете Чичерина бьют сейчас часы, те, большие, с золотым циферблатом.
Репнин. Если события не примут неожиданного оборота, склонить вернуться в Москву всех остальных.
Чичерин. Если не примут неожиданного оборота? Ну что ж, я, пожалуй, согласен.
В заключение разговора Репнин спросил, следует ли ему ждать представителя Наркоминдела, как это предполагалось вначале.
Из ответа Чичерина Николай Алексеевич вонял, что такая перспектива не исключена.
Репнин вернулся. Северцева не было. Он не дождался окончания разговора и выехал в город. Видимо, выехал поспешно. В пепельнице лежала трубка. Она продолжала дымиться.
Был первый час ночи, когда Репнин направился домой. В окнах давно погас свет. Поблескивала река. В белом июльском небе купола кремлевского собора выглядели призрачными. Далеко за городом шальные выстрелы рвали тишину.
Репнин вспомнил разговор о Маркине и вновь, как тогда в Питере, ощутил при упоминании этого имени тревогу. Он не мог до конца понять теперь, как не понял тогда, чем ей был интересен этот человек и каковы были истинные причины их добрых отношений, а может, даже дружбы. Репнин был убежден: то, что делала Настенька теперь, в сущности, было определено желанием порвать со всем тем, чем был для нее мир ее первого мужа, и вернуться к добрым берегам юности, ко всему тому, что неизменно отождествлялось с обликом и именем отца. Как ни сильно было ее чувство к Репнину, она должна была признать, что он чужд идеалам ее юности. А Маркин? В нем были и симпатичная простота, и добрая лукавинка, то есть как раз то, что она привыкла видеть в отце и что она так ценила в людях.
Автомобиль пересек площадь. Дома были погружены в темноту — город видел уже третий сон. Только «Золотой якорь» бодрствовал — желтое пламя дымилось в окнах.
96
В полдень к Репнину явился Кокорев, он робко вступил в гостиную.
— Прошу вас. — Репнин указал на кресло.
В тот раз Кокорев за минуту их встречи в ночи открыл Репнину много. Сколько же минут потребуется ему сейчас, чтобы поставить все с ног на голову?
— Курите? Прошу. — Все протокольные слова, пока не было сказано ни единого человеческого.
— Благодарю вас, Николай Алексеевич. — В который раз уже Кокорев робко-почтительно повторил «Николай Алексеевич» и получил в ответ «вы», «вас», «вам». Да надо ли с ним так говорить?
— Я осведомлен о целях вашего приезда в Вологду, — начал Кокорев и неистово загремел коробком со спичками, пытаясь зажечь папиросу — столь несложная операция стала вдруг ему не под силу. — Быть может, то, что я сообщу, будет вам полезно, — добавил он почти скороговоркой.
Репнин поднялся, пошел по комнате. Когда он обернулся, увидел Кокорева со спины — сутулая спина, седины: такое впечатление, что место Кокорева занял старик. Вскоре после того как Кокорев принес томик Уитмена. Елена спрашивала отца: «Дано ли человеку право убивать другого?» Кроткая Елена, и вдруг такое. Не иначе, как на мысль эту навел «Комиссар» — этим именем уже окрестили у Репниных Кокорева.
— Я вас слушаю, — произнес Репнин все тем же тоном и вновь подумал: «В самом деле, надо ли с ним так говорить? Ведь он оробел не потому, что робок, — слава богу, на фронте, наверно, бывал в переплетах. И не потому, что он, Репнин, важная птица. Просто Николай Алексеевич — отец Елены». — Положение продолжает оставаться тревожным?
— Да, очень, — произнес Кокорев и придвинул стул. — Помните наш разговор о заговоре послов?
Репнин встревожился — беседа обещала вторгнуться в самую опасную сферу.
— Помню, разумеется. Но я часто вспоминаю и вашу реплику о Локкарте и Робинсе. — произнес Репнин. — Да, по дороге в Смольный, второй раз… — уточнил Николай Алексеевич. Среди явлений, которые вызвал к жизни дипломатический Петроград, история Локкарта — Робинса была во многом примечательна и неизменно вызывала интерес Репнина.
— Робинс и Локкарт — это проблема любопытная! — оживленно заговорил Кокорев, чувствуя, что Репнин как бы поощрял его к разговору. — Как вы помните, они явились в Смольный в разное время: Робинс — в ноябре, по горячим следам, Локкарт — в феврале, вскоре после приезда. Да и не похожи они друг на друга. Робинс — очень широкий, земной, первозданный, хотя прикоснувшийся и к культуре и к политике, он политик отменный! Локкарт… да что говорить? Вы знаете Локкарта! Разные характеры, да и политические полюса у них разные, хотя задача одна — разведка. Я думал об этом, Николай Алексеевич, и утверждаю категорически: и у Робинса была эта задача, когда он явился в Смольный, — разведка против Советской власти, против Ленина, если хотите! Я не дипломат и не знаю, так ли себя вела дипломатия в подобных обстоятельствах прежде, но тут она нашла ход очень эффектный: в момент, когда отношения прерваны, сделать своими представителями и связными с новым правительством таких людей, как Робинс и Локкарт. Я сказал, разведка…
— Но знал ли об этом Ленин? — осторожно спросил Репнин.
Кокорев взглянул на красные руки и снял их со стола. Только сейчас Репнин заметил, что фуражка с поломанным козырьком и звездочкой, лежащая на стуле рядом, обильно покрыта рыжей здешней пылью. Очевидно, Кокорев примчался сюда, не заезжая на квартиру, которая должна быть у Кокорева, — он в Вологде недели три. Все эти дни зной, не по-северному сухой и жесткий, сменялся под Вологдой ливнями, тоже не по-северному обильными, с потоками белого огня, низвергающегося с неба.
— Знал ли об этом Ленин? По-моему, знал. Но поставьте себя в положение Ленина. Как вести себя с людьми, явившимися со столь своеобразной миссией? Велико искушение принять позицию лица официального. Я знаю: так бы сделали многие и были бы правы. Ленин повел себя иначе, надо очень доверять правде своей, чтобы повести себя иначе! Нельзя сказать, чтобы Ленин обратил Робинса в свою веру, да в этом, пожалуй, не было необходимости, но он противопоставил его Френсису и, пожалуй. Локкарту.