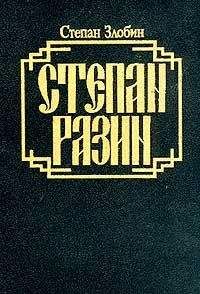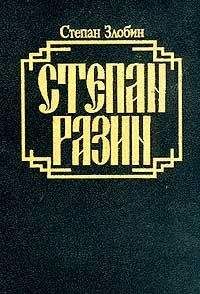Степан Злобин - Степан Разин
– Неугоден я стал тебе, государь, то моя и вина во всех незадачах державы, – с обидой сказал Афанасий, стараясь держаться спокойно. – Ан нет человеков на свете, у которых вся жизнь прошла без промашки... А я что бы ныне тебе, государь, ни сказал, что бы ни сделал, ты лишь в раздражение и печаль. Без гнева, по правде размыслить, так сей кровавый мятеж еще раз показал, что Афонька Нащокин во многих великих делах государства был, всеконечно, прав. Из сего мятежа явно стало, что боярский уклад безотменно быть должен порушен, единодержавно должно быть царство и ни в пяди не может быть более терпимо удельное княжество вора донского Корнилки...
– Пошто верноподданца нашего атамана хулишь и вором его называешь? Какое его тебе ведомо воровство?! – взбеленился царь, словно вступался не за донского атамана, а за самого близкого человека.
Предательская поимка Степана Разина обратила к Корниле сердце царя.
Ордын-Нащокин понял, что надо смириться, что не прежнее время и прямым упорством ему уже не взять. Он смирил себя.
– А как нарещи, государь великий, кто царскую власть исхищает? Как нарещи, государь, кто воров и беглых людишек от державных законов с ружьем и снарядом хранит, бережет от дворянской правды? – вкрадчиво заговорил боярин. – Али то не поруха царству?! Хитростью лезет к тебе, государь, донская старшина. Все они воры, как Разин. Казацкий Дон – воли твоей надругательство и государству урон, а от недругов не оборона! Верь ты мне, государь. Казацкое войско – не войско, а волчья свора: то и глядят, где бы крепче зубами вгрызться в тело державы... А сей мятеж показал, что нам надобно новое войско, и о том я тебе, государь, говорил и советовал не по разу... И крестьянство всегда от бояр в разорении будет, покуда торговли да промыслов...
– А дивно, что ты не пошел, Афанасий Лаврентьич, в монахи! Столь поучать ты преклонен, – с насмешкой перебил его царь. – Послушать тебя, то и вспомнится Никон... Тот тоже всегда и во всем оставался прав, ажно поныне стяжал себе славу ученого человека, – а всего лишь мордовский поп!.. И ты бы напялил рясу!
– От скорби моей и обид одно и прибежище вижу – обитель божью. Давно уж хотел я тебя, государь, умолять, да не смею: немилостив ты ко мне ныне... – ответил боярин, не глядя в глаза царя.
– О чем ты хотел умолять? – словно не понимая его, спросил царь.
– Отпустил бы меня, государь, в монастырь, о спасении души помыслить...
«Вот тут-то и взмолится государь! Канцлера своего, большой печати и великих и тайных дел сберегателя, упекчи в монастырь-то!.. Небось и не то в курантах напишут по всяким землям!» – подумал со злостью Ордын-Нащокин.
– Да как я тебя отпущу?! – широко раскрыв свои голубые глаза, простодушно и прямо, с некоторой даже растерянностью сказал Алексей Михайлыч. – Али ты уж разгневался, право? Да кто же в приказе Посольских дел станет сидеть у кормила? На все державы ты знатен великим умом!..
– Нет, я не во гневе... Старость подходит. Покоя ищу. А тут молодые взросли! – не сдержав свою радость, ответил боярин. – Вот хотя... Артамон Сергеич... Я мыслю, не менее станет и он искусен в великих делах...
– Не с тобой мне равняться, боярин! – в смущенье возразил Артамон. – Молод я для такого великого дела.
– Полно, что ты! И я ведь не старым родился! – воскликнул Ордын-Нащокин. – Служба державе мудрость дает человекам! – Он покосился в сторону государя. Царь поймал его быстрый взгляд и усмехнулся.
– Ты прав, Артамон! Афанасий Лаврентьич уж так искушен в посольских делах, столь премудр, что ты с ним не мысли равняться, равного не найти ему не токмо что в нашей державе – во всех соседних и дальних не сыщешь. Кабы он не сказал за тебя, то и я усумнился бы дать в твои руки правление дел посольских. Ан в сих великих делах привык я во всем Афанасия слушать. Придется и ныне мне воле его покориться. Когда человек о спасенье души помышляет, грех был бы мне мирскими делами его от бога вдали удержать!..
Внезапная бледность покрыла лицо боярина. Он растерялся. Чтобы скрыть замешательство, охватившее все его существо, Афанасий Лаврентьевич стремительно ринулся на колени перед кивотом, ударился об пол лбом и замер в земном поклоне.
Артамон Сергеич и царь молились, стоя сзади него, не нарушая молчания, каждый из трех – скрывая свои настоящие чувства.
Наконец Афанасий поднял от пола залитое слезами «умиления», побелевшее и осунувшееся лицо, перекрестился еще раз.
– Ныне отпущаеши раба твоего, владыко, по глаголу твоему! – прошептал он громко и встал с колен. – Благодарю тебя, государь, за великую милость к холопишке твоему! Радостно мне в обитель господню, к мирному житию отойти, а когда восхощеешь призвать меня для пользы державы оставить покой, то с радостью послужу тебе и в монашеском чине, – сказал боярин, опускаясь теперь на колени перед царем.
Царь поднял его и обнял.
– Чем, может, обидел когда-нибудь я тебя, Афанасий, забудь и прости, – сказал царь, словно не понимая того, что именно в этот миг совершал самую большую обиду.
– "Feci quod potui, faciant meliora potentes", как говорили латиняне, – сказал Афанасий Лаврентьевич. И, зная, что царь не разумеет латыни, добавил по-русски. – Я творил так, как краше умел, а кто ныне придет, тот пусть лучше меня сотворяет! – Он повернулся к сопернику: – На новые, небывалые прежде пути вступает великая наша держава. Посольска приказа начальник – вожатый ее по дорогам между иными державами. От иных отставать нам негоже. То и слово мое в дорогу тебе, Артамон Сергеич!..
И, не в силах сдержать слезы бешенства и отчаяния, не удерживаемый больше никем, отставленный «канцлер» покинул царскую комнату...
Сарынь на кичку!
Косой лунный луч через окошко вверху освещал столетнюю плесень на кирпичах стены и какие-то черные пятна – может быть, пятна крови замученных здесь людей. Мокрицы и пауки уже две недели то и дело падали на изрубцованное, покрытое язвами и едва прикрытое лохмотьями тело. На улице эта ночь была знойной, но тут, в кирпичном застенке, стояла влажная, леденящая тело мгла... На полу где-то рядом и ночами и днями суетливо шлепали лапками по кирпичу, дрались и пищали крысы. Раза два в эту ночь пробежала крыса по телу Степана. В соломенной подстилке, брошенной на пол, все время что-то шуршало...
Степан был прикован железным ошейником к цепи, навеки вмурованной в толстую стену Фроловой башни Кремля. Вот уже две недели он не мог найти удобного положения. Спина, бока, ноги, руки и плечи – все было изъязвлено кнутом, плетями, клещами, огнем. Он пробовал лечь на живот, но была изодрана и сожжена вся грудь... Не найдя положения для сна, как каждую ночь перед утром, он сел наконец на солому; так было легче, но голова не держалась от слабости, и он уронил ее на руки.
Напротив Степана таким же ошейником был прикован Фролка. Он круглыми сутками вздыхал, стонал и молился... Иногда он плачущим голосом начинал лепетать оправданья, словно Степан – судья, которому вольно его помиловать и простить.
– Ты пожил, попировал, Степан, пограбил богатства, повеселился, власти вкусил, кого хотел – того миловал али казнил, народ перед тобою на колена падал... Не жалко небось тебе помереть, есть за что!.. А мне каково! Я и сам не хотел воевать, смирно жил... Ты послал меня, я и пошел, а меня, как тебя же, и мучат и судят!.. Где же тут правда?.. Не надо мне было богатства, ты дарил кафтаны да шубы, коней... А мне было к чему! Я своей рукой ни единого человечка ни в бою не побил, ни в миру не казнил!.. За тебя пропадаю... Алена Никитична торопила тогда: иди да иди, выручай, мол брата...
– Чего ж ты боярам-то не сказал? – мрачно спросил Степан, терпеливо молчавший до этих пор.
– Чего не сказал?
– Что Алешка тебя послала... С тебя бы и сняли вину, а ее бы, вместо тебя, и на плаху!..
– Смеешься ты надо мною, Стенька! – плаксиво, с обидой сказал Фрол. – А мне ведь бедно едва за тридцать лет помирать. Молодой я...
– Отстал бы ты со слезой! – оборвал Степан.
«Вот в том он и видит все счастье, что пировал, что народ преклонялся, что золото было... Вино пил да платье цветное носил... За то ему было бы помирать не жалко... И то ведь сказать, что напрасно я впутал его. Добра от него не бывало, а слез цело море бежит!..» – думал Степан.
Фрол обиделся. Не найдя сочувствия, он больше не обращался к Степану, стонал и вздыхал про себя.
Вот уж несколько дней они не сказали, брат брату, ни единого слова. Каждый жил про себя и думал свое...
«И то, жалко жизни! – думал Степан, погруженный в себя, не слушая стонов брата. – Ему тридцать лет, а мне... Мне бы тоже вперед жить да жить... Ведь есть казаки, что живут по сту лет, а мне и половины далеко не довелось. Не вина, не богатства, не солнышка божьего жалко. А дела не довершил – вот что пуще всего. Фролка разве уразумеет, за что жалко жизни?! Города покорял, воевод казнил, вольную жизнь устраивал, а ныне пришли да назад повернули. К чему же тогда было жить? Что ж, вся слава моя пустая? Ведь сколь было неправды на свете, столько ее и осталось!.. А хвастал! – со злостью сказал себе Разин. – Хвастал: все поверну! Все по правде устрою!.. Вот я каков – силы нет против меня: ни пуля, ни сабля меня не берет!.. Как молодой казачонок бахвалился – ни кольчуги ни шапки железной носить не хотел. И голову не сберег... А надобно было блюсти себя для народа. Не простой человек ты, когда вся земля за тобою встает!.. Вот и пропал. Где другого такого-то взять?! Атаманов, и добрых, немало, да Степан Тимофеич-то был один на всю Русь!.. Не бахвалюсь? – спросил Степан сам себя. И твердо ответил: – Нет, не бахвалюсь! Эку гору кто бы на плечи поднял?! Ведь был путь полегче. Вон князь Семен тогда Ермакову славу сулил!..»