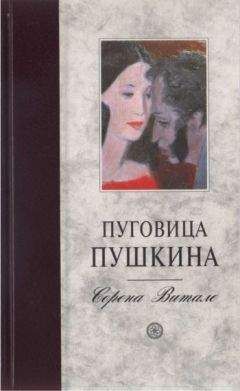Дмитрий Мережковский - Воскресшие боги, или Леонардо да Винчи
«Испил чашу. – Biberat calicem».
– А правда ли, монсеньоры, – спросил камерарий, тоже испанец Педро Каранса, – правда ли, будто бы сегодня ночью заболел кардинал Монреале?
– Неужели? – воскликнул Арбореа. – Что же с ним такое?
– Не знаю наверное. Тошнота, говорят, рвота...
– О Господи, Господи! – тяжело вздохнул Арбореа и пересчитал по пальцам: – Кардиналы Орсини, Феррари, Микеле, Монреале...
– Не здешний ли воздух или, может быть, тибрская вода имеют столь вредные свойства для здоровья ваших преподобий? – лукаво заметил Бельтрандо.
– Один за другим! Один за другим! – шептал Арбореа, бледнея. – Сегодня жив человек, а завтра...
Все притихли.
Новая толпа вельмож, рыцарей, телохранителей под начальством внучатого племянника папы, дона Родригеса Борджа, камерариев, кубикулариев, датариев и других сановников Апостолической Курии хлынула в покои из обширных соседних зал Папагалло.
«Святой отец, святой отец!» – прошелестел и замер почтительный шепот.
Толпа заволновалась, раздвинулась, двери распахнулись – и в приемную вступил папа Александр VI Борджа.
IIIВ молодости он был хорош собою. Уверяли, что ему достаточно взглянуть на женщину, чтобы воспламенить ее страстью, как будто в глазах его сила, которая притягивает к нему женщин, как магнит – железо. До сих пор черты его, хотя расплылись в чрезмерной тучности, сохранили величавое благообразие: смуглый цвет лица, череп голый, с остатками седых волос на затылке, большой орлиный нос, отвислый подбородок, маленькие быстрые глазки, полные живостью необыкновенною, мясистые мягкие губы, выдававшиеся вперед, с выражением сластолюбивым, лукавым и в то же время почти детски-простодушным.
Напрасно Джованни искал в наружности этого человека чего-либо страшного или жестокого. Александр Борджа обладал в высшей степени даром светских приличий – врожденным изяществом. Что бы ни говорил и ни делал, казалось, что так именно следует сказать и сделать – нельзя иначе.
«Папе семьдесят лет, – писал один посланник, – но с каждым днем он молодеет; самые тяжкие горести его длятся не более суток; природа у него веселая; все, за что он берется, служит к пользе его, да он, впрочем, и не думает ни о чем, кроме славы и счастья детей своих».
Борджа выводили свой род из кастильских мавров, выходцев из Африки, и в самом деле, судя по смуглому цвету кожи, толстым губам, огненному взору Александра VI, в жилах его текла африканская кровь.
«Нельзя себе представить, – думал Джованни, – лучшего ореола для него, чем эти фрески Пинтуриккьо, изображающие славу древнего Аписа, рожденного солнцем быка».
Сам старый Борджа, несмотря на семьдесят лет, здоровый и могучий, как матерый бык, казался потомком своего геральдического зверя, златобагряного быка, бога солнца, веселья, сладострастья и плодородия.
Александр VI вошел в залу, разговаривая с евреем, золотых дел мастером Саломоне да Сессо, тем самым, который изобразил триумф Юлия Цезаря на мече Валентино. Особой милости его святейшества заслужил он, вырезав на плоском, большом изумруде, в подражание древним камням, Венеру Каллипигу; она так понравилась папе, что этот камень он велел вставить в крест, которым благословлял народ во время торжественных служб в соборе Петра, и таким образом, целуя Распятие, целовал прекрасную богиню.
Он, впрочем, не был безбожником: не только исполнял все внешние обряды церкви, но и в тайне сердца своего был набожен; особливо же чтил Пречистую Деву Марию и полагал ее своей нарочитою Заступницей, всегдашнею теплою Молитвенницей перед Богом.
Лампада, которую теперь заказывал он жиду Саломоне, была даром, обещанным Марии дель Пополо за исцеление мадонны Лукреции.
Сидя у окна, рассматривал папа драгоценные камни. Он любил их до страсти. Длинными, тонкими пальцами красивой руки тихонько трогал их, перебирал, выпятив толстые губы, с выражением лакомым и сластолюбивым.
Особенно понравился ему большой хризопраз, более темный, чем изумруд, с таинственными искрами золота и пурпура.
Он велел принести из собственной сокровищницы шкатулку с жемчугом.
Каждый раз, как открывал ее, вспоминалась ему возлюбленная дочь его, Лукреция, похожая на бледную жемчужину. Отыскав глазами в толпе вельмож посланника феррарского герцога Альфонсо д’Эсте, своего зятя, подозвал его к себе.
– Смотри же, Бельтрандо, не забудь гостинчика для мадонны Лукреции. Не добро тебе к ней возвращаться с пустыми руками от дядюшки.
Он называл себя «дядюшкой», потому что в деловых бумагах именовалась мадонна Лукреция не дочерью, а племянницей его святейшества: римский первосвященник не мог иметь законных детей.
Он порылся в шкатулке, вынул огромную, в лесной орех, продолговатую розовую индийскую жемчужину, которой не было цены, поднял к свету и залюбовался: она представилась ему в глубоком вырезе черного платья на матово-белой груди мадонны Лукреции, и он почувствовал нерешимость, кому отдать ее – герцогине Феррарской или Деве Марии? Но тотчас, подумав, что грешно отнимать у Царицы Небесной обещанный дар, передал жемчужину еврею и приказал вставить в лампаду на самое видное место, между хризопразом и карбункулом, подарком султана.
– Бельтрандо, – снова обратился он к посланнику, – когда увидишь герцогиню, скажи ей от меня, чтоб здорова была и усерднее молилась Царице Небесной. Мы же, как видишь, милостью Господа и Приснодевы Марии, всегдашней Заступницы нашей, в здравии совершенном обретаемся и ей апостольское шлем благословение. А гостинчик доставим тебе на дом сегодня же вечером.
Испанский посол, подойдя к шкатулке, воскликнул почтительно:
– Никогда не видывал я такого множества жемчуга! По крайней мере, семь пшеничных мер?
– Восемь с половиною! – поправил папа с гордостью. – Да, можно чести приписать жемчужок изрядный! Двадцать лет коплю. У меня ведь дочка до перлов охотница...
И, прищурив левый глаз, рассмеялся тихим странным смехом.
– Знает, плутовка, что ей к лицу. Я хочу, – прибавил торжественно, – чтобы после смерти моей у Лукреции были лучшие перлы в Италии!
Погружая обе руки в жемчуг, забирал он его пригоршнями и ссыпал между пальцами, любуясь, как тусклые нежные зерна струятся с шуршанием и матовым блеском.
– Все, все для нее, дочки нашей возлюбленной! – повторял, захлебываясь.
И вдруг в горящих глазах его что-то промелькнуло, от чего холод ужаса пробежал по сердцу Джованни – и вспомнились ему слухи о чудовищной похоти старого Борджа к собственной дочери.
IVЕго святейшеству доложили о Чезаре.
Папа пригласил его по важному делу: французский король, выражая через своего посланника при дворе Ватикана неудовольствие на враждебные замыслы герцога Валентино против Республики Флорентинской, находившейся под верховным покровительством Франции, обвинял Александра VI в том, что он поддерживает сына в этих замыслах.
Когда доложили о приходе сына, папа взглянул украдкою на французского посланника, подошел к нему, взял его под руку и, говоря что-то на ухо, подвел как бы нечаянно к двери той комнаты, где ожидал Чезаре; потом, войдя в нее, оставил дверь, должно быть тоже нечаянно, приотворенной, так что сказанное в соседнем покое могло быть услышано стоявшими у двери, в том числе французским посланником.
Скоро послышались оттуда яростные крики папы.
Чезаре начал было возражать ему спокойно и почтительно. Но старик затопал на него ногами и закричал неистово:
– Прочь с глаз моих! Чтоб тебе удавиться, собачьему сыну, блудницыну пащенку!..
– Ах, Боже мой! Слышите? – шепнул французский посланник своему соседу, венецианскому ораторе Антонио Джустиниани. – Они подерутся, он прибьет его!
Джустиниани только пожал плечами: он знал, что если кто кого побьет, то скорее сын отца, чем отец сына. Со времени убийства Чезарева брата, герцога Гандии, папа трепетал перед Чезаре, хотя полюбил его еще с большею нежностью, в которой суеверный ужас соединялся с гордостью. Все помнили, как молоденького камерария Перотто, спрятавшегося от разгневанного герцога под одежду папы, Чезаре заколол на груди его, так что в лицо ему брызнула кровь.
Джустиниани догадывался также, что теперешняя ссора их – обман: они хотят окончательно сбить с толку французского посланника, доказав ему, что, если бы даже у герцога были какие-либо замыслы против Республики, папа в них не участвует. Джустиниани говаривал, что они всегда помогают друг другу: отец никогда не делает того, что говорит; сын никогда не говорит того, что делает.
Погрозив вдогонку уходившему герцогу отцовским проклятьем и отлучением от церкви, папа вернулся в приемную, весь дрожа от бешенства, задыхаясь и вытирая пот с побагровевшего лица. Только в самой глубине его глаз блестела веселая искра.
Подойдя к французскому посланнику, снова отвел его в сторону, на этот раз в углубление двери, выходившей на двор Бельведера.